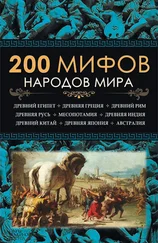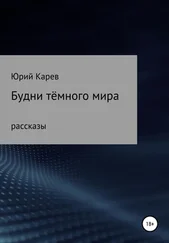Они развлекались, и я должна была стоять возле Руфуса, которому принадлежат девяносто из ста кораблей с зерном, приходящих в Остию. Рядом со мной лежал Кустос. Иногда Руфус похлопывал собаку, иногда - меня, собаку нежно, меня больно. Потом он бросил собаке кусок мяса, а мне - баранью кость. Они поставили меня на возвышение, голую, и танцевали вокруг меня, а Дидус сочинил эпиграмму на кость, которую швыряют человеку, и тогда я крикнула: раб тоже человек.
Они катались от хохота, а потом Руфус позвал Кустоса, это легко проверить, сказал он, человечьего мяса он не ест, и велел мне положить руку псу в пасть. Он укусил меня, и Дидус сочинил новую эпиграмму о том, что собака вынесла окончательный приговор - кто человек, а кто нет.
Медленно засыхает кровь на моей руке, на ней теперь только четыре пальца, стихает боль, и мои глаза спрашивают голову, они видели все, но ничего не поняли.
Они верят в то, что Руфус может заставить голодать всю страну, потому что ему принадлежат девяносто из ста судов, привозящих зерно. Но почему Дидус сочиняет эпиграмму о справедливом приговоре собаки, а не о Руфусе, который считает, что собака может выносить приговор человеку? Ведь он обладает силой слова, почему же он кричит: я тоже собака, почему он не крикнет: я человек?
Мои глаза только видят и вопрошают разум, а я спрашиваю друга веселого трубача: разве знание - сила?
Ответ на обратной стороне луны, говорит он, сбивает замок с двери и освобождает меня. Я боюсь темноты и дальней дороги, и я боюсь прийти туда, куда иду. Но у меня нет выбора.
В негустой тени березы сидит человек и пишет. За ним его дом в один этаж, а может, под крышей уместились еще две каморки со скошенными стенами. Пластмассовый желоб под крышей в одном месте треснул.
Я спрашиваю: "Что вы пишете?"
Вместо ответа он задает вопрос: "Вы здесь чужая?"
Конечно, я здесь чужая, но, может быть, я просто пришла с чужбины.
Я говорю ему: "Мне нравится ваш сад".
Я думаю над тем, что ответить, если он спросит, почему мне нравится его сад. Может быть, потому, что ограда сада только обозначает его границу, а не отгораживает его, она включает в себя весь ландшафт. И наоборот, сад органично вписывается в ландшафт как его естественная часть, оставаясь при этом садом.
"Не ищите символов, - говорит человек. - Вещи есть лишь то, что они есть". Он дает мне спокойно осмотреть сад, проверить, прав ли он: дерево - это дерево, стебелек плевела - это стебелек плевела, и стена леса справа, за которой уже ничего не видно, - это стена леса, а на переднем плане он и я.
Нас это не касается, мы ведь не вещи, которые есть лишь то, что они есть. Мы на самом деле одно, а изображаем совсем другое. Например, теперь я изображаю защитника - он постукивает пальцем по блокноту, - здесь моя речь в защиту проселочной дороги. А вы будете судьи ей, потому что вы не причастны к этому делу.
Я причастна ко всему: где бы ни сдирали кожу с человека, ее сдирают с меня.
Он читает в блокноте: проселочная дорога начинается за постройкой, которая когда-то служила амбаром - теперь наверху квартира, внизу два гаража - и выбегает ив деревни. Вырвавшись на свободу - справа и слева ячменные поля, - проселочная дорога бежит спокойно и весело; немного попетляв, она прямо и не спеша приводит в соседнюю деревню.
"Я плохой защитник", - говорит человек.
"Это ваша дорога?" - спрашиваю я.
Нет, наша. В общем, бесполезная. Как картина на стене. Или как стихотворение в газете, которое отнимает место у чего-то полезного, скажем, здесь можно было бы поместить кулинарный рецепт или что-нибудь поучительное.
Мы оба молчим растерянно, а в его молчании мне чудится бессильный протест.
Он смотрит на меня, видит, что я держу в руке, на которой только четыре пальца, и говорит об этом, или о себе, обо мне; его "я" предстает в разных ипостасях: повсюду, где я бывал, рассказывает он, я видел маленьких мальчиков, которые играли в убийство. Их Добро и Зло были еще Добром и Злом из сказки, они мечтали о любимом пудинге или о мороженом, и вся их жизнь еще была игрой; с игрушечным оружием или просто палкой в руках они преследовали и убивали врагов. Но завтра один из них бросит в другого комком земли, а когда он рассыплется, крикнет: атомный взрыв, вы все убиты, и пятилетний вытянется перед семилетним, приложив маленькую испачканную ручку к забавной шапке с помпоном. Все превращено в пустыню, генерал.
Тогда у него и отломился палец, думаю я.
Нет, не тогда, говорит он. Это произошло позже, когда здесь в саду рядом со мной сидел мой друг, был конец мая, цвела вон та акация, развесистое одинокое дерево, за ним - широкое поле; на востоке светилась красноватая луна, и где-то, может быть на акации, пел скворец. Если бы здесь еще были соловьи, я бы поклялся, что это соловей. Мой друг - мягкий, добрый человек, не очень здоровый, с целым грузом забот на своих покатых плечах - рассказывал об учениях, на которых присутствовал в качестве наблюдателя. "Огневой удар, - говорил он, - в течение то ли трех, то ли тридцати минут на икс километров вглубь и на икс километров вширь уничтожает все живое, вплоть до жука и дождевого червя. Все превращается в пустыню", Рассказывая, мой друг содрогался, но и он, добрый, мягкий человек, был полон гордости, что мы можем уничтожить одним ударом столько врагов, если они нападут на нас.
Читать дальше