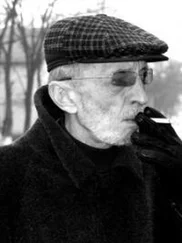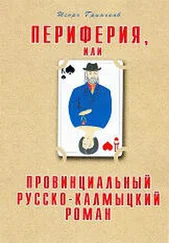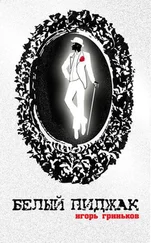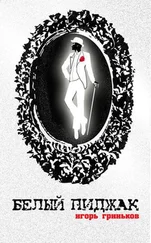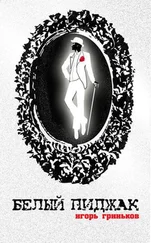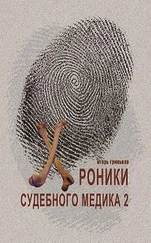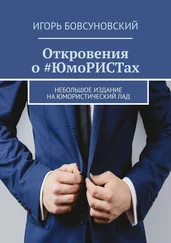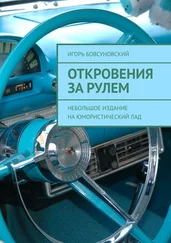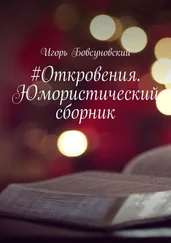Сверток из целлофана, перевязанный крест-накрест бечевой, доставленный в морг, и содержащий то, что когда-то было мертвым телом Натальи С., покоился на секционном столе, ожидая начала проведения экспертизы.
В своем постановлении В. Т. Самохин поставил 10 вопросов, на которые мне надлежало ответить, вопросов конкретных, составленных выверенно и четко, а главное — целенаправленно. Перечень и логическое построение вопросов прокурора-криминалиста выгодно отличались от многих постановлений нынешнего поколения следователей, которые просто скачивают с дискеты заготовленную кем-то «болванку» — «сборную солянку», например, с пособия для юристов, не утруждая себя размышлениями, а нужны ли для дела ответы на некоторые вопросы и дают ли они что-нибудь следствию.
Предстоящее исследование никак нельзя было назвать простым, тем паче — заурядным. Ряд существенных обстоятельств очень осложнял работу. Разложение кожи и мягких тканей (в некоторых местах — сплошное гниющее месиво, как никак, 40 дней в самую жару), дополнительное посмертное воздействие пламени с выгоранием обширных участков, что привело к уничтожению многих ценных морфологических признаков и самих повреждений плюс частичное расчленение трупа.
Высчитывать шансы на успешный результат при таком раскладе — занятие совершенно бессмысленное, даже вредное, поэтому, составив в уме план действий, лучше сразу взяться за работу, методично, сантиметр за сантиметром изучая объект исследования, стараясь не пропустить любую мелочь, поскольку мелочей в нашей профессии просто не бывает. Разумеется, груз ответственности лежал на плечах эксперта громадный; ведь, в случае невозможности установить причину смерти погибшей (а это в силу перечисленных выше моментов никак не исключалось), вся работа оперативно-следственной группы пошла бы насмарку. Уж при таком положении вещей тертый калач — Геннадий В. нашел бы способ выкрутиться из создавшейся ситуации.
Итак, глаза боятся, а руки делают. Читателю совершенно ни к чему знать технику вскрытия трупа, особенно гнилостно измененного, так что опустим этот сугубо профессиональный раздел. Следует лишь упомянуть, что одежда на трупе сильно обгорела и представляла собой отдельные фрагменты различной формы и размеров с черными, обугленными краями. Остатки нижней рубашки были собраны в жгут и туго завязаны на шее. Руки прижаты к груди и крепко связаны в области запястий бельевой веревкой, на которой также имелись следы воздействия пламени. В разложившихся мягких тканях на месте левой ушной раковины оказалась как бы «впаянная» золотая сережка с бледно-фиолетовым камнем; аналогичная серьга была найдена нами накануне при извлечении трупа из захоронения.
Зубы у трупа хорошо сохранились в лунках и имели ценные в экспертном отношении особенности (при жизни у Натальи были удалены оба четвертых зуба на нижней челюсти). Вот когда я по-настоящему пожалел, что Геннадия доставили ко мне не на 3-й или хотя бы на 6-й день, а только через 15 суток; тогда экспертиза по следам зубов наверняка дала бы совершенно другой, более конкретный результат.
Впервые во время секции я почувствовал осторожный прилив уверенности, когда добрался до органокомплекса шеи и при бережном ощупывании обнаружил патологическую подвижность левого большого рога подъязычной кости.
Подъязычная кость — небольшое костное образование подковообразной формы, упрятанное глубоко под языком, между нижней челюстью и гортанью; отсюда и название. Особенность ее анатомической локализации делает подъязычную кость практически недоступной для любых внешних механических воздействий. Ломается она преимущественно при одном виде травматического воздействия — сдавлении органов шеи руками человека. Прижизненное повреждение «подъязычки» — один из диагностических признаков удавления руками. Имеются, конечно, и другие механизмы ее травмирования, но они встречаются реже и также связаны с локальным давлением на шею.
С максимальной предосторожностью, дабы не привнести дополнительные повреждения, вместе с окружающими мягкими тканями подъязычная кость была иссечена для первоначального рентгеновского исследования. Кроме того, часть мышечных тканей из области предполагаемого перелома была взята в гистологическое отделение.
На рентгенограммах, сделанных с препарата подъязычной кости, четко определялся перелом ее левого большого рога в месте его соединения с телом (корпусом) кости. Детальное изучение перелома непосредственно на рентгенограмме с помощью сильной лупы позволило сделать вывод о сгибательном механизме его образования. Уже после проведенной рентгенографии можно было заняться подъязычной костью в лабораторных условиях. Аккуратное отделение остатков мягких тканей от самой кости выявило разрыв капсулы в месте перелома с хорошо заметными на глаз темными кровоизлияниями (признак прижизненности повреждения).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Игорь Гриньков Откровения судебного медика [сборник] обложка книги](/books/72434/igor-grinkov-otkroveniya-sudebnogo-medika-sborni-cover.webp)