С большим трудом он выторговал себе разрешение приходить на несколько часов в день на работу, на несколько часов надевал прежнюю маску, но она уже не могла обмануть даже тех немногих из его подчиненных, кто был полностью лишен честолюбивых устремлений. Надежда встать в строй постепенно развеялась. Вскоре он снова вернулся вечером домой в состоянии полного изнеможения; на этот раз подскочила температура. По утрам на платке стали появляться розовые, потом алые пятна, и это невозможно было долго скрывать. Ему снова пришлось отступить, сдаться, примириться с постельным режимом, согласиться на опасное путешествие, ставшее теперь его новой, его последней надеждой…
День захватил уже всю ширь небосвода, разогнал последние клочья тумана. Все вокруг было залито прозрачной ясностью, она придавала контурам странную четкость, резко разграничивала тени и свет; эта четкость удивила его, так же как и широкая перламутровая пелена, простиравшаяся на востоке, там, где вставало солнце, еще скрытое за холмами, на склонах которых листва оливковых деревьев переливалась точно предвестие излучаемого морем света.
Мсье Рени созерцал пейзаж с недоверием. Природу он любил, хотя почти никогда не бывал на природе; он любил ее по смутным воспоминаниям детства, но любил как житель Севера и признавал лишь в виде тучных земель, пашен, лесов и озер. А эти резкие линии за окном, эта желтая сухая земля и щебень, эти незнакомые деревья — они только смущали его, как, впрочем, все, что было связано с Югом и с итальянцами; к последним он испытывал снисходительное презрение.
Но, может быть, оттого, что он чувствовал себя в это утро немного лучше обычного, к недоверию сейчас примешивалось любопытство. Не было ли это уже тем чудом, которого ожидали врачи от перемены места и климата? В его положении самый недоверчивый человек не может устоять перед той потаенной надеждой, какую возбуждает само безумство подобного паломничества.
Испуганный вскрик;
— Пилюли! Ты их не принял!
Он не принял ни одного лекарства, и почувствовал себя виноватым, и тут же рассердился на себя за это.
— Я спала! Боже, как я спала! — с ужасом проговорила Анриетта.
Ее жалкое, помятое, лишенное косметики лицо, на котором было написано раскаяние, ничуть не растрогало его. А она ведь так мало спала весь этот год, бедная его сиделка!
Это был его маленький реванш, он мстил ей за свое зависимое положение, предвидя, что жизнь на новом месте сделает его участь узника еще тяжелее.
— Ты спала как сурок! Я мог бы криком кричать, все равно бы ты не услышала! — бросил он с горькой иронией.
Пейзаж снова изменился. Поезд шел теперь среди искрящихся лагун.
* * *
Каждое утро, проснувшись, он должен был глотать эти пилюли, а в десять часов — другие, потом перед обедом и ужином — еще и еще. Питание тоже представляло собой целую проблему, ибо из меню была полностью исключена соленая пища. Пришлось везти с собой всякие пакетики, в которых были отмерены, взвешены, строго дозированы мельчайшие количества веществ, необходимых для организма и его водяного баланса в течение суток, — гнетущая бухгалтерия, в которой он совершенно терялся — от отвращения к ней и просто по рассеянности. В конце концов он оставил при себе лишь круглую коробочку с несколькими розовыми драже — он всегда носил ее в жилетном кармане или в кармане пиджака на случаи неожиданного приступа, который мог произойти в любую минуту, — всю же остальную аптеку положили в сумочку к Анриетте.
Рени отдавал себе отчет в том, что попадает таким образом под ее постоянный надзор, поскольку тем самым ее постоянное присутствие рядом с ним становилось необходимым, но на протяжении зимних месяцев, долгих месяцев полной физической немощи, особого неудобства от такого соседства он не ощущал. После вторичного приступа болезни он почти не выходил из дому, если не считать коротких прогулок в середине дня, когда позволяла погода; мучительная одышка, из-за которой он едва передвигал ноги, приводила его в отчаяние. Ему невольно вспоминались прежние прогулки, эти долгие блуждания, когда он отпускал машину и бродил по городу, с любопытством наблюдая уличные сценки и заигрывая с женщинами; свои случайные знакомства он обычно доводил до победного конца, поскольку вкусы у него были неприхотливые и он находил удовольствие в мимолетных связях, доставлявших чувственное наслаждение и не влекущих за собой никаких осложнений, могущих помешан работе; эта примитивность требований особенно возросла в последние годы. Он все больше дорожил своим временем, но не желал сдерживать свои любовные аппетиты, порожденные темпераментом, каковой он не без гордости считал поистине юношеским. Он просто платил своим партнершам деньги — и не видел в том ничего зазорного. Теперь от этих лакомств, ставших для него такими привычными, тоже пришлось отказаться. Он стремился сократить свои нынешние грустные прогулки: они слишком живо напоминали ему о прошлом. Он предпочитал теперь сидеть отшельником в тепле и комфорте квартиры, запершись в четырех стенах своей комнаты, где, несмотря на нудный ритуал лечения, вкушал в одиночестве иллюзию свободы. Однако, как ни пытался он скрыть это от себя самого, его постоянно терзал страх — страх ошибиться в дозе, забыть принять пилюлю, перепутать порошок; этот страх мог возрастать или уменьшаться в зависимости от физического самочувствия, но полностью не проходил никогда; давнее душевное малодушие перед лицом болезни — у него, человека, который никогда не болел, — теперь прочно поселилось в нем и терзало его какой-то беспредметной тревогой.
Читать дальше
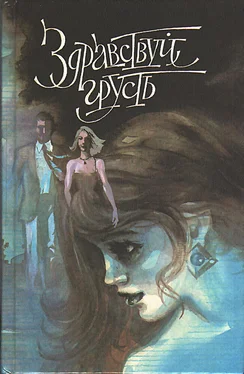

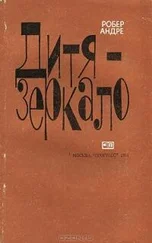




![Робер Мерль - БСФ. Том 17. Робер Мерль [«Разумное животное»]](/books/424176/rober-merl-bsf-tom-17-rober-merl-razumnoe-zhi-thumb.webp)



