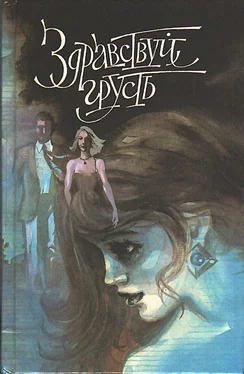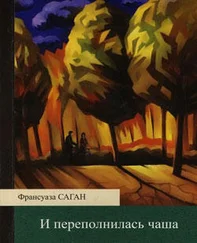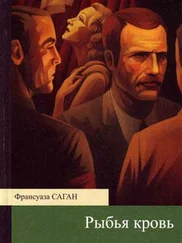Почему? Невозможно понять. Когда я объявила тебе, что тоже выхожу замуж, ты подарил мне цепочку. Она вся почернела у меня на шее. И тогда я подумала это оттого, что наша с Фредериком любовь вся почернела, ей нельзя показаться на белый свет. Почернела цепочка.
Ты сказал, что очень счастлив и в то же время очень несчастлив, оттого что я выхожу замуж. Надеюсь, насчет очень счастлив ты солгал.
Вот ты, когда ехал венчаться, позвонил мне и старался говорить совсем тихо, боялся, как бы она не услышала, и ты сказал мне, что…
— Что тебе очень страшно, — повторила Клер, и голос у нее пресекся. — Что ты носишь с собой маленькую косточку Меровингов, которую я тебе подарила. Фредерик, ведь это неправда? Все это невозможно. Просто скверная шутка. Я не могу понять.
Она несколько раз шмыгнула носом, потом заговорила иным, рассудительным тоном:
— Ты должен быть счастлив. Вот что я себе твержу, но особой радости не испытываю. Нет, я хочу сказать, что испытываю радость, но это не утешает. Фредерик, я была с тобой счастлива. Может, вовсе не так счастлива, но мне это казалось. В сущности, да, лучше было бы, чтобы ты действительно был счастлив со своей женой, лучше бы, и я надеюсь, что…
Я надеюсь, что у вас с ней будет ребенок и все прочее. Но в чем же смысл? Не могу понять. Не могу больше понять. Ничего не понимаю. А дни идут за днями и ничего не улаживают.
Думаю, когда-нибудь вопреки всему. Вопреки всему и себе на беду. Я покончу с собой. Чтобы помешать всему, что… Всему, что может еще произойти. Но, возможно, у меня слабое воображение, я не вижу чего-то иного, что со мной произойдет. Не вижу больше. Не желаю больше, чтобы со мной что-то происходило. Только то, что завтра. Рассказывать тебе. Слушать тебя. Воображать, будто все можно перечеркнуть и начать сначала.
А потом она уснула. Или, вернее, я. На следующее утро она не хотела меня будить. Она не попрощалась, ничего не сказала. Уехала и умерла. Так что волей-неволей все это и запечатлелось в моей памяти.
Папа тоже предатель. Мне было так стыдно, что я думала о Клер в маминых объятиях, так стыдно, что мама не захотела меня наказать, когда я сказала: «Ты и правда хочешь заставить меня уехать, как Клер?», что я спряталась в машине. Чего-чего, а прятаться я умею здорово. Ведь в стенной шкаф или в машину они сроду не заглянут, им это и в голову не придет, уж они непременно будут искать тебя где-то далеко, где тебя и в помине нет.
Мне до того хотелось так вот и сидеть в машине, пока они про меня не забудут и не уедут в Париж, ясно, вместе со мной, уже высохшей, и с моей челюстью на заднем сиденье, но я до того проголодалась, что этот план оказалось слишком трудно выполнить. Когда я решила, что они уже улеглись спать, я вылезла из-под откидного сиденья и выбралась наружу. Ноги меня не слушались, точно у новорожденного ягненка, в ушах звенело. Я не очень-то хорошо представляла себе, что мне делать, дошла до угла гаража, дом был погружен в темноту.
И вдруг, совсем рядом, увидела неподвижную фигуру папы. И я сразу поверила, что папа больше всех на свете, что у него теплые руки, которые могут унести далеко, и я очутилась наверху, в его объятиях. На этот раз мой трюк с поджиманием пальцев ног не удался, я не могла удержаться и захныкала, но мне было не так уже стыдно, потому что папа запер кухонную дверь на засов и поклялся, что никто меня не увидит.
Мы съели глазунью и одиннадцать тартинок, макая их в шоколад с молоком. Папа посадил меня на колени, ему хотелось знать, почему я ушла. Он говорил «ушла», как люди говорят о Клер, и тогда я сказала, помимо моей воли:
— Потому что я не хочу больше жить с вами.
— Почему?
— Потому что не хочу стать похожей на вас.
— Что же, по-твоему, в нас такого ужасного?
Я прекрасно чувствовала по папиному голосу, что он не принимает меня всерьез, и от этого было еще труднее объяснить.
— Не знаю. Метроном. Бабушка. Каноник. Запрет летать на Луну, даже когда все будут туда ездить. В общем, все.
— Метроном? — спросил папа, улыбнувшись в усы.
— То самое. То, что заставляет вас так поступать.
— Ладно, — сказал папа. — Попробуем кое-что уточнить. Знаешь ли ты, чего именно хочешь?
— Я хочу быть, как Клер. Как Люлю Диаман.
— Люлю Диаман! Кто рассказал тебе о ней?
— Тетя Ребекка.
Папа спустил меня с колен; скрестив ноги, он сказал:
— Знаешь, твоя милейшая тетушка — ужасная чудачка.
Он сказал, что Люлю Диаман звали Мадлен Триньон. Она была бретонкой, но все слова произносила с английским акцентом. Ее мечта, говорила она, смотреть, как за окнами лачуги льет дождь, и есть прямо руками каштаны, обмакивая их в сметану. Она лгала, она вообще не желала есть. Целью ее жизни было добиться, чтобы грудь и бока ее стали лишь клеткой с дугообразными прутьями-ребрами, за которыми бьется сердце.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу