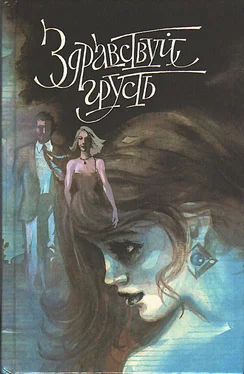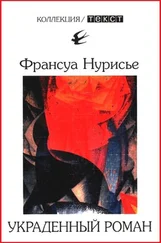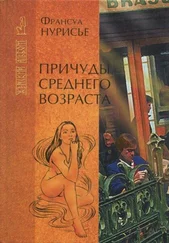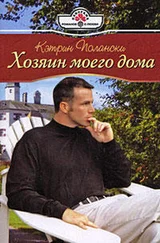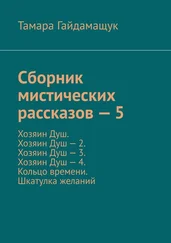Не успею я умереть, как выпустят новую модель «ситроена». Едва отвернешься — и вот… Сколько времени проходит — недели? Месяцы? Что-то изменится в очертаниях — может быть, кузов станет более обтекаемый? Или фары другие? Если только не придумают что-нибудь сверхновое, и тогда уже назовут другим именем, изобретут еще какое-нибудь хитроумное сцепление, поднимут скорость, устроят багажник чемоданов на десять, не меньше, а как же иначе, мосье, жизнь продолжается. Под Парижем все насквозь пронижут туннелями. Еще дальше протянут автострады. А уж платья… Те, кто умер году в сорок пятом и притом в таком возрасте, когда еще занимает эта ерунда, не подозревали, что их возлюбленные годом позже напоминали бы собственных бабушек — помните ту моду? Стоячие воротники, юбки до пят. А я верю только в приметы или в святотатство: в то повседневное и насущное, что исчезает бесследно, в дедовское кресло — память, которую продают с торгов.
Не следует давать волю воображению, ему опасно пускаться в эту сторону вскачь. Слишком много там провалов, пожалуй, закружится голова. Впрочем, не все сплошь черно в моих предположениях, хотя на другой день после смерти я стану одинаково равнодушен и к черному цвету, и к розовому. Могу, например, биться об заклад, что в глазах Беттины, моей молчальницы, я сразу вознесусь на высоты неслыханные. По лицу у нее ничего не прочтешь, но такая замкнутость обманчива. Уж наверно, на дне какого-нибудь ящика валяется моя фотография, которую она вытащит на свет божий, увеличит, вставит в рамку. И станет на нее молиться. Не завидую поклонникам Беттины, плохо им придется, когда я умру. Она сочтет, что ни один и в подметки мне не годится. Бедняги. До чего же их будет злить эта расплывчатая фотография на камине и холодное молчание девочки. «А ты сама-то читала его писанину?» Беттина разгонит всю эту желторотую шпану и кончит восторгами и упоением в постели какого-нибудь господина в летах, брюзги вроде меня, плешивого и склонного выпить лишнее. Глупая штука жизнь.
Продадут ли мои Лоссан? Сразу же, с перепугу, за бесценок? Или сначала года два будут упрямо биться и отступят с честью? «Ради детей я все сделал а, чтобы сохранить дом, и ведь Робер был так к нему привязан! Но, увы, это невозможно…»
Ох уж эта жестокость, обращенная на тех, кого больше нет! Раны, наносимые жертвам, чье тело и душа больше не способны кровоточить, рассудительный героизм живых… Как я все это заранее ненавижу! Да, я хотел бы, чтобы все осталось, как есть, на своих местах — тут домашние туфли, там вечная ручка… Пусть мой вязаный жилет отдадут на съедение моли, пусть превратят Лоссан в музей. Музей сугубо личный, без посетителей, без смысла и цели; как бы музей в себе; все оцепенело бы там вокруг моей тени, мимолетная жизнь моя, мотылек-однодневка, обратясь в прах, перешла бы в вечность… Все пугает меня, слишком пугает, и я не прикидываюсь бодрячком, не уговариваю друзей поскорее забывать, а вдов — выходить снова замуж. И раз уж поневоле приходится думать о том, как все пойдет и как переменится после меня, будьте так любезны, увольте меня от лицемерия! Дайте позубоскалить — я не знаю иного способа устоять, когда захлестывает вал.
Было воскресенье, и строители не работали, но я все-таки отправился в Лоссан. Приехал около десяти, в церкви как раз звонили к обедне, а под платанами затевалась игра в шары; некоторое время я бродил по стройке, дергал неподатливые двери, прибирал забытые инструменты. Потом поднялся колокольный перезвон, захлопали автомобильные дверцы, заурчали моторы — и я вышел на галерею. Деревня разом ожила. На улице перед входом в кафе было полно машин. Слышались громкие голоса. Те из мужчин, что сами не участвовали в игре, подзадоривали игроков. И вдруг словно бы все смолкло. Я говорю «словно бы», потому что на самом деле люди не замолчали, но в общем говоре пролегла борозда тишины — так расступается толпа из почтительности или страха, пропуская трех женщин в черном. В их лицах не было пи кровинки. Трудно было даже сказать, стары они или молоды. Ничего не замечая вокруг, они пересекли лужайку, где шла игра, миновали мой дом и удалились по дороге, ведущей в город.
И тут я вспомнил, накануне рассказывали, что несколькими днями раньше — я тогда был еще в Париже — автомобильная катастрофа унесла сразу четыре жизни из одной семьи.
Женщины в трауре прошли через толпу односельчан — в этой небольшой деревне, наверно, почти все друг с другом «на ты», — еще столь явно и зримо отмеченные тлетворной печатью смерти, что перед ними все стихало. Зачумленные, неприкасаемые. (Но, конечно, понемногу это впечатление рассеется.) Они и сами не пытались перекинуть мостик между окружающей жизнью и своим временным изгнанием.
Читать дальше