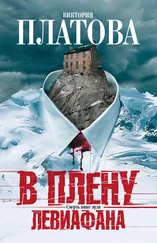Вполне достоверная встреча с китайцем, о которой Цветаева рассказала в одном из своих писем Анне Тесковой, стала поводом, проявившим характернейшую сторону ее мироощущения: солидарность с теми, кто угнетен или по разным причинам отвержен «благополучным» большинством. Солидарность с теми, кто нуждается в защите, поддержке, дружески протянутой руке. Острейшая боль сострадания — одна из сущностных черт ее личности. Отдадим должное — черта эта была присуща Цветаевой с самых ранних лет, а отнюдь не возникла тогда, когда сама она оказалась в число «метеков». «Затравленность и умученность, — писала она в «Пленном духе», защищая, в частности, Белого от снисходительного суда литературного обывателя, — ведь вовсе не требуют травителей и мучителей, для них достаточно самых простых нас, если только перед нами — не свой: негр, дикий зверь, марсианин, поэт, призрак. He-свой рожден затравленным...»
Отчетливо слышна в «Китайце» и живая тревога, разбуженная событиями, разыгравшимися во французской столице в первые месяцы этого года. Врожденная ксенофобия французов подогревалась теперь двумя реальными обстоятельствами: трудностями экономической ситуации (кризис едва начал сдавать свои позиции) и свежим притоком новых беженцев, уже из фашистской Германии.
— Убирайтесь в свою страну! Грязные иностранцы! — эти возгласы легко возникали теперь при малейшем уличном конфликте и долгим эхом отдавались в ушах русских, рождая чувство черной безысходности.
На какой-то короткий период в бурные февральские дни, когда рабочие Парижа объявили всеобщую забастовку, показалось, что напряженная враждебность может сгладиться на почве общих испытаний. «Иллюстрированная Россия» с удовлетворением рассказывала, например, о сближении русских таксистов со своими французскими коллегами. Согласование требований забастовщиков, совместные усилия по организации оптовых закупок продуктов для семей рождали живое ощущение общих интересов. И все же то были лишь недолгие эпизоды единения. «Мы в лучшем случае все — бедные родственники за богатым столом, которым кусок хлеба становится поперек горла, а в худшем — непрошенные едоки там, где и своего не хватает», — писал тот же русский еженедельник.
Неприкрытая враждебность на уровне простого обывателя соединялась с поистине ледяным равнодушием к положению русских эмигрантов среди культурных слоев французского общества. Правда, на рубеже 20-х и 30-х годов тут наметилось было некоторое сближение. Цветаева несколько раз присутствовала на собраниях Русско-французской студии, проходивших в помещении издательства «Юманите Компорен». Здесь обсуждались проблемы французской и русской литературы, с французской стороны участвовали Поль Валери, Андре Моруа, Жорж Бернанос, Андре Мальро, Габриэль Марсель. Какие-то связи с французскими литераторами завязались тогда и у Марины Ивановны. Но чтобы их упрочить, нужно было жить в Париже, а не в предместьях, нужен был другой склад характера. В больших собраниях Цветаева всегда была замкнута и молчалива, «обвеяна холодком», как говорила ее приятельница Извольская, а это не слишком располагало к упрочению новых знакомств.
Французские контакты ее еще предстоит изучить. Но известно, что в некоторых «литературных домах» Парижа Марина Ивановна бывала — и чаще всего разочаровывалась. «Скучно с французами! — читаем в ее письме, написанном в 1930 году к Саломее Гальперн. — А может быть, с литературными французами... Разговоры о Бальзаке, о Прусте, о Флобере. Все знают, все понимают и ничего не могут (последний смогший и изнемогший — Пруст)». Еще более горько о том же — в письме к Тесковой: «Париж мне душевно ничего не дал. Знаете, как здесь общаются? Гостиные, много народу, частные разговоры с соседом — всегда случайным, иногда увлекательная беседа и — прощай навсегда. Так у меня было много раз, потом перестала ходить (нишу о французах). Чувство, что всякий знает и понимает, но занят целиком собой, в литературном кругу (о котором пишу) — своей очередной книгой. Чувство, что для (неразб.) тебя места нет. Так я недавно целый вечер пробеседовала с Alain Gerbault, знаменитым одиноким путешественником... И — что же? Да то, что самая увлекательная, самая как будто — душевная беседа француза ни к чему не обязывает. Безответственно и беспоследственно. Так, как говорит со мной, говорит с любым, я только подставное лицо, до которого ему никакого дела нет. Французу дело до себя. Это у них называется искусством общения...»
Читать дальше