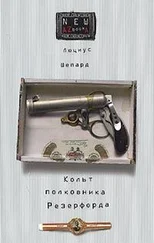Что-то забубнила сидевшая у его ног женщина. Неопрятная тридцатилетняя кляча с тяжелыми бедрами, отвислыми грудями и желтушной кожей. Одета в когда-то голубое платье. После того как он закончил с ней работать, женщина сказала, что зовут ее Ирма и что она потеряла ребенка.
– Как дела, Ирма? – спросил Минголла.
– Я теперь пою, – ответила женщина, вглядываясь в дальний конец улицы. – Пою моему дитятке, когда спать укладываю.
– Вот и славно. – Он протянул ей половину сэндвича. – Есть хочешь?
Она качала на руках воображаемого ребенка, улыбалась и что-то бормотала.
Может, это и неплохо, думал Минголла, замедляться и замедляться, как тени из армий баррио, пусть выдует все заселенные клочки памяти. Стольким нормальным людям нет до этого дела, и ничего, вроде бы довольны.
– Пасито, Пасито, – проворковала Ирма и ласково потрепала невидимого ребенка за подбородок. Бледная улыбка мадонны осветила ее одутловатое лицо.
Опустошенный жутковатым зрелищем, Минголла отвернулся, хотя в то же время он был рад, что дымок человечности еще клубится в этой женщине, в ней еще осталась любовь к... тому, чему он сам уже не мог отдаваться всей душой. Он вспомнил работника своего отца, старого серьезного маклера с седыми волосами и мятым, как кухонная тряпка, лицом. Он разыгрывал перед Минголлой доброго дядюшку, с удовольствием травил байки о своих скитаниях, рассказывал о премудростях торговли и страховок.
– Первым делом, – говорил он, – ты выкладываешь им плохие новости. Цену, порядок платежей. Потом коротко описываешь, что они получат, ничего особенного. Они не впечатляются. Можно даже сказать, недовольны. Они рассчитывали на что-то получше. Тогда ты даешь им с минуту повариться, а после говоришь: «Теперь самое интересное».
Маклер распинался о скрытом инвестиционном потенциале, но для Минголлы его слова отдавали тухлыми банальностями, он выуживал из них другой смысл, веру в то, что мир – тот самый, что крутится снова и снова по рутинному кругу неприметных радостей и горестей,– в один прекрасный день развернется и обнаружит в самой своей сердцевине некую ослепительную сущность, переполненную, как рождественская звезда, вечными истинами. Такой же примерно красотой открывалась ему любовь Деборы, но здесь, в баррио, для Минголлы изменилось слишком многое, и, хотя их занятия любовью были по-прежнему прекрасны, у него не получалось извлечь из них что-то большее, чем простое облегчение. Сильнее всего изменилась сама Дебора. Она так увлеклась мирными переговорами, отдавалась им с такой страстью, что даже самые обычные ее слова имели теперь привкус простодушного идеализма, который приводил Минголлу в смятение, заставлял смотреть на нее новыми глазами, удивляться, как можно быть такой глупой. Прошлой ночью, в перерыве между сексом, когда они лежали на боку, все еще вместе.
...смешно... – сказала она.
...что...
...я думала, где бы хотела с тобой жить, и решила, что лучше всего в каком-нибудь зеленом месте, зеленом и уединенном... зеленом...
Слово «зеленое» звучало в нем как связавшая их вместе струна, на долю секунды он ощутил ее и свое тело кинестетически – так, как чувствовала его в себе она, безмятежное тепло и радость наполнения.
...эдем... сказала она ...ни чужаков, ни законов, мы сами установим законы, как нам захочется...
Ее увлеченность заставляла его острее чувствовать собственное безразличие, но он не хотел сбивать ее с мысли.
...что же здесь смешного...
...я их всегда терпеть не могла: джунгли, горы... отец вечно таскал нас на природу... ему нравилось, нравилось, когда вокруг пусто... и после тюрьмы я столько насмотрелась и на джунгли и горы... мне они осточертели... но с тобой – с тобой я хочу жить в чистом месте, чтобы никто его не рушил и вообще не трогал...
Минголле хотелось крикнуть, чтобы она замолчала, потому что чем больше она говорила, тем сильнее ему казалось, что она не в своем уме – ну как можно радоваться и на что-то надеяться посреди этого кошмара, – он вошел в нее.
..Дэвид, о боже, Дэвид...
Он вцепился в ее ягодицы, он вламывался, сжимал ее до бесчувствия.
...я хочу, чтобы ты в меня кончил, Дэвид... сейчас... только в рот, я хочу в рот...
Слова заводили, он дергался еще несколько секунд, потом растерянно застыл. Лучи света сквозь щели занавесок, Деборина кожа переливается неровными полосами...
...что случилось, Дэвид...
...устал просто...
...давай остановимся, ничего страшного...
Читать дальше