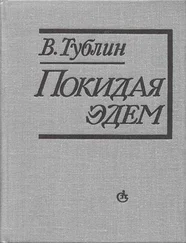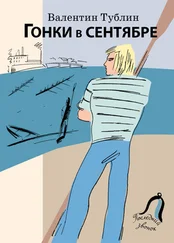– Я?
– Ну да. Ты спал и все повторял какое-то имя. Я так поняла, что ты говоришь – Тимофей, Тимофей… Вот он и побежал.
Катя, Костя, Костина мама, коричневый чай, морс, Тимофей… (Это у них так зовут кошку. Именно кошку.) Тим, Тимофей…
– Тимофей? – спрашиваю я. – С чего бы я звал Тимофея?
Катя задумывается. Она морщит лоб.
– Нет, – говорит она, – какое-то другое имя, но очень похожее. Сейчас, погоди, попробую вспомнить. Тимофей? Тевритей? Ну, попробуй, может, сам вспомнишь?
Но откуда я могу вспомнить то, о чем я не имею никакого представления? И в то же самое время что-то очень знакомое слышится мне в этих звуках… Евритей? Нет, это бессмыслица. И я начинаю вспоминать все имена, похожие на имя Тимофей. Ерофей? Но при чем тут Ерофей? Ни одного Ерофея в жизни я не знал. Тогда что же? Евримей? Глупость. Эвмей? Это уже что-то. Эвмей, Эвмей…
– Эвмей? Это я говорил?
Катя думает. У нее очень красивое лицо, словно у мадонны. Нет, скорее она похожа на Венеру Боттичелли, но, конечно, Венера никогда не занималась академической греблей, а Катя – чемпион Европы по гребле в академической четверке. Правда, это случилось совсем недавно. Катя, гребля, чемпионат Европы… Гребля, гребля… Тут появляется еще одна шестереночка – маленькая такая, крошечная, начинает крутиться, но никого до поры до времени не зацепляет. Шестереночка называется академическая гребля. Запомним. Эвмей, Эвмей… Ага, так звали пастуха, к которому пришел Одиссей, когда после долгих странствий вернулся на Итаку, к себе домой, на свой остров. А почему я вдруг вспомнил про это? Потому что я читал «Одиссею».
– Нет, – говорит наконец Катя. – Эвмей! Нет. Похоже, но то было подлиннее. Похоже, но я подумала, что Тимофей.
Зачем же я читал «Одиссею»? Ах, да, для доклада о Гомере. Хотя это не мое чтение. Это Костино. Это он сходит с ума от Тита Ливия. Эвмей, раб царя Одиссея. Одиссей возвращается на Итаку, а там женихи пристают к его жене. Удивительно, зачем? Ей же было сто лет. Ну, сорок. Пожилая женщина. Совсем в годах. В возрасте. Почти что в преклонном. Как моя мама. Как Костина мама. Сорок лет или около того, совсем пожилая. Эвмей, свинопас. Меня это все не должно интересовать, нет. Меня интересует Сетон-Томпсон. «Рассказы о животных», вы, конечно, их читали. Это – книга. Или его же – «Животные-герои». Я когда прочитал рассказ «Виннипегский волк» – чуть не заплакал, честно. А «Джек – боевой конек» – о зайце. Вернее, о диком кролике. Или тот рассказ о голубе по имени Арно, помните? С ума можно сойти. Или Даррелл – «Зоопарк в моем багаже». Это – книги. А «Одиссея»…
Еще одно колесико появилось, еще одна шестеренка. Но эта даже не крутилась, появилась, исчезла, снова появилась, снова исчезла. Одиссей, Эвмей, Гомер…
Шестереночка закрутилась, зацепилась, значит, попала на место… Мой доклад в Эрмитаже – «Что мы знаем о Гомере?» Уже огромное количество шестеренок вертелось – Катя, гребля, первенство Европы… Гомер, Одиссей, Эвмей… Тимофей… Эврисфей.
– Эврисфей?
– Ну, – говорит Катя. – Ну.
Это у нее вместо утверждения. Она никогда не скажет «да», но всегда – «ну»…
– Ну, – говорит она. – Этот самый. А я думала – Тимофей. А кто это?
– Кто – кто?
– Ну этот… который не Тимофей…
Она не придуривается, нет. Катя, я имею в виду. Нисколько. Не подумайте, что я задаюсь, но она ни черта не знает. Я хочу сказать, она не знает тысячи вещей. Я один раз начал что-то говорить о Рафаэле, а она говорит: «А я и не знала, – говорит, – что он еще и художник. Я-то, – говорит, – думала, что он только поет». Вы поняли? Я чуть не помер. На волосок был от смерти. То есть я подумал сначала, что она так шутит. Понятно? Я даже удивился – это и как шутка-то никуда не проходит. Но самое потрясающее было то, что она вовсе не шутила. Клянусь. Я же говорю – я чуть не умер. Вы поняли? Она подумала, что Рафаэль еще и рисует. Значит, она, черт бы ее побрал, никогда не слышала о Рафаэле. Вернее, она именно слышала, но не о нем, а его самого. Того, который пел в кинофильме «Пусть говорят». Вы поняли? О каком-то занюханном певце – нет, вру, он неплохой певец, о каком-то певце, пусть он даже пел бы, как сто тысяч соловьев, она слышала, а о Рафаэле – никогда. Да, это был номер. Я потратил, наверное, миллион слов, пока не убедил ее, что это разные Рафаэли, но так ничего и не смог добиться. Она мне не поверила. Она, по моим наблюдениям, по уши влюблена в этого самого поющего Рафаэля; она приклеила его фотографию на обратную сторону зеркальца и больше смотрит на эту обратную сторону, чем в само стекло. Ну и ну. И, конечно, она ни слова не слышала ни о Гомере, ни об Одиссее, ни о каком-то там Эвмее. Я ей сказал как-то, что надо бы ей прочитать все это, но тут она меня сразила. Я говорю ей: «Такие вещи…» Я имел в виду тогда то, что она никого не знала и слыхом не слыхивала – ни Рафаэля (кроме поющего), ни Тициана, ни Микеланджело, ни Леонардо да Винчи. (Знаете, как она называла его первое время? Ставлю тысячу рублей – не угадаете. Она звала его – Леонардо Давыдович!) Никого она не знала. А когда я ей сказал, что такие вещи надо знать, она мне в ответ: «А зачем?» Вы поняли? Я оторопел. «Как, – говорю, – зачем?!» А она: «А вот, – говорит, – так. Зачем я это должна знать? Где мне это нужно? Что, – говорит, – я с твоим Леонардо Давидовичем буду делать? Если бы, – говорит, – это было бы нужно, нам об этом сказали бы в техникуме». Она окончила физкультурный техникум и, по-моему, порядком воображала (я имею в виду Катю). А может быть, она просто обиделась. Я даже думаю, что она определенно обиделась – не из-за того, что она, как оказалось, совсем – ну на все сто процентов! – не слышала о живописи (это, по-моему, ее просто не задело), а из-за Рафаэля. Из-за того, что есть еще один, который кому-то известен, пусть даже этот кто-то – такой мальчишка, как я.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу