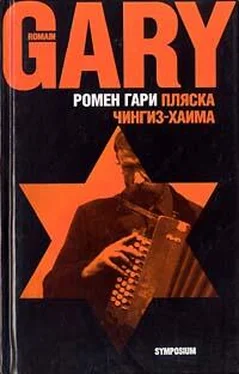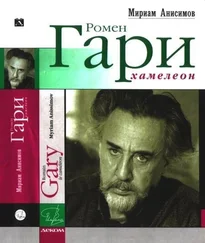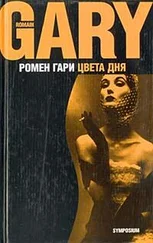— Хватит! — заорал он. — С меня хватит! Это продолжается уже двадцать два года! Отстаньте от меня!
Я согласно кивнул и отвалил, насвистывая «Хорст Вессель». В Германии сейчас настоящее возрождение военных маршей. Выпускают пластинки. Напевают. Готовятся. Канцлер Эрхард отправился в Соединенные Штаты требовать ядерного оружия. Вернулся несолоно хлебавши и был отправлен в отставку. Когда имеешь прошлое, тащить на плечах девятнадцать лет демократии нелегко. Новый канцлер Кизингер очень недолго — с 1932 по 1945 г., в период идеализма и юношеского энтузиазма, — состоял в нацистской партии. Короче, этот пыл, что налетает порывами, наверно, меня немножечко и беспокоит: возрождение. Кстати, я тут припомнил, что, когда профессор Герберт Левин несколько лет назад был назначен главным врачом Центральной больницы Оффенбаха — это недалеко от Франкфурта, — большинство муниципальных советников воспротивились под тем предлогом, что — цитирую — «невозможно доверять врачу-еврею и позволить ему непосредственно лечить немецких женщин после того, что произошло с евреями». Недавно я вырезал эту цитатку из иллюстрированного приложения к «Санди Таймс» от 16 октября 1966 г. и повесил ее над стульчаком моего друга Шатца, чтобы он не чувствовал себя таким одиноким.
— В конце концов, это недопустимо! — рявкнул Шатц.
Гут ошарашенно воззрился на него. Хюбш вскочил из-за стола и заботливо склонился над горячо любимым шефом. Должно быть, они думают: переутомление. Кстати, а вы знаете, что Эйхман всегда носил в кармане фотографию своей маленькой дочки? Люди никогда не способны реализоваться полностью.
— Вы что-то сказали? — осведомился Гут.
— Ничего, — буркнул Шатц. — Тут мне…
Что бы вы мне ни говорили, а я уверен — он чуть было не ляпнул: «Тут мне явился мой еврей», — но вовремя спохватился.
— Тут мне… немножко нехорошо стало, — объяснил он.
Он опять схватился за бутылку. Мне это совсем не нравится. Этот подлец пытается меня утопить.
— Это обычная история, когда я переутомлюсь, — объяснил Шатц. — Но днем такое случается редко… Ну, хорошо. Вы тут говорили про двух «влиятельных» господ, желающих повидать меня, в то время как я завален… занят кучей трупов…
Я как ни в чем не бывало быстренько прошелся перед ним. Вид у меня был, будто я целиком занят собственными заботами. Шатцхен проследовал за мной взглядом, вскочил и грохнул кулаком по столу.
— Черт возьми! Хватит меня преследовать!
— Хорошо, хорошо, — забормотал Гут, решивший, что шеф имеет в виду тех двух господ, настаивающих на приеме. — Я сейчас им передам… — Он покачал головой: — А вам, патрон, надо бы немножко отдохнуть.
— Я всегда исполнял свой долг до конца, — отрезал комиссар.
Это чистая правда, и я решил, что надо его с этим поздравить. В руке у меня букетик цветов. Я поставил его в стакан на письменном столе моего друга. Я страшно люблю проявлять такие маленькие знаки внимания. Но комиссар выглядел как бык, которому нанесли незаслуженное оскорбление. С секунду он пялился на букетик, а потом забарабанил кулаками по столу.
— Немедленно убрать эти цветы! — заорал он. Инспектор Гут и Хюбш переглянулись.
— Какие цветы, шеф? — удивленно спросил Гут. — Нет тут никаких цветов.
Шатцхен сделал глубокий вздох. Но я не уверен, что от этого ему стало легче. Понимаете, дело в том, что я — часть этого воздуха. Как бы это объяснить?… Чистая химия. Ничего сверхъестественного. Атомы там всякие. Молекулы. Я знаю, что еще? Короче, никуда я не делся, как был, так и остался.
— Не хотите на минутку прилечь? — заботливо осведомился Гут.
Гут совсем еще молодой человек. Двадцать восемь лет. Высокий, белокурый, крепкий, того физического типа, который отлично смотрится на Олимпийских играх. Конечно, он слышал, как и остальные, обо всей этой истории, но по сравнению с добрыми личными воспоминаниями это ничто. Он — немец нового поколения. Я для него пустое место. Вообще для них я не существую. Они вам даже скажут, что в Германии больше нет евреев. И они совершенно серьезно так думают. И навряд ли даже из антисемитизма, скорей уж из сыновнего почтения.
— Да не хочу я ложиться, — сдавленным голосом отвечает Шатц. — Что угодно, только не ложиться. Если я лягу, будет еще хуже. Эта сволочь садится мне на грудь…
И тут Шатц спохватывается:
— Я хотел сказать… у меня тяжесть… вот здесь, в груди…
— Это желудок, — объявляет Гут. — Съели что-нибудь тяжелое и никак не можете переварить.
Читать дальше