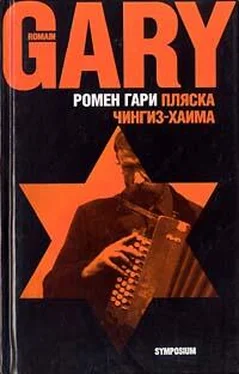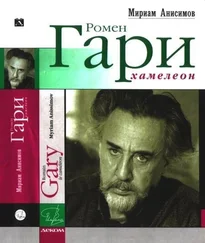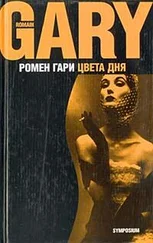Рабби Цур из Белостока как-то мне объяснил, что для французов человечество — женщина: и в этом слове, и в самом понятии, по их мнению, заключено все самое женственное, что только может существовать. Вообще похоже, что по этой части они большие любители. Выкладываются вовсю, хотя никогда ничего достичь не смогли.
Шатц недвижно лежал на дне ямы, сжимая руками пучки еврейской травы. Я был чудовищно смущен этой искупительной жертвой, этой внезапной сменой ролей. Сделать для него я ничего не мог: во-первых, мне некому было скомандовать «Feuer!», а во-вторых, у меня не было автомата. Да я ни за что и не выстрелил бы в него. Порой я задаю себе вопрос, не чересчур ли я зол.
К тому же я прекрасно знаю, почему он таскал меня в лес Гайст. Вне всяких сомнений, его тянет из-за Лили. Он очень любил жену, которую тоже звали Лили, — могу вас заверить, она была очень недурна собой, — но после трех лет супружества она от него ушла под предлогом, что не выносит жизни втроем. Она стала немножко нервной. Всем рассказывала, что ее муж повсюду таскает с собой еврея и что с нее хватит. Она ничего не имеет против евреев, но есть все-таки места, куда они не должны соваться, и что это отвратительно. В ту пору все сочли ее немножко неуравновешенной, и дело кончилось разводом. Помню, перед бракоразводным процессом я привел своего друга Шатцхена в состояние глухой ярости, выразив надежду, что суд назначит охрану еврея ему, а не его жене. Уж и пошутить нельзя. Он все воспринимает слишком трагически.
По лесу я бродил немножко наобум. Я знаю, что Флориан давно уже все время проводит в лесу Гайст: это его любимое место прогулок. Он приходит сюда помечтать, поразмышлять, ну и взять что ему положено тоже. Он чрезвычайно склонен к размышлением: люди столько о нем размышляли, что, вполне естественно, он отвечает им взаимной вежливостью. Они столько думали друг о друге, отчего взаимоотношения их, посмею сказать, стали немножечко нездоровыми.
Тут имеются прелестные ручейки, которые журчат, струясь, как и положено, по камешкам. Растет папоротник. Птички. Всякие чики-чики и чик-чирики доносятся с каждой ветки. Всюду порхают недолговечные, эфемерные бабочки и мотыльки. Орлы здесь не водятся: места слишком низкие. Не водятся также волки, красные шапочки и бабушки. Лес поражен неким реализмом, он утратил аромат младенчества и невинности. Потерял девственность. По воскресеньям сюда во множестве приходят парочки — по причине ям. Они прямо как нарочно приспособлены для любовных утех.
Я вышел на опушку. На ней старые развалины, ничего интересного, камни, почерневшие от давнего пожара, ничего поэтического, ничего особо вдохновляющего, достаточно банально. Также несколько скал. А в глубине прекрасный вид на замок. Смотри-ка, на скале лежат несколько книжек. Не могу удержаться от улыбки. После Лили и Флориана на их пути вечно остается много произведений литературы.
Я не ошибся. Только я заметил книжки, как тут же появился Флориан. В руках у него нож, и он аккуратно вытирает его. При этом насвистывает мотивчик, от которого, если у вас есть спина, по ней побежали бы мурашки.
Я тотчас отметил небольшой физический изъянец, которым он страдает: красивые желтые бабочки, так грациозно порхающие в воздухе, при его приближении падают мертвыми. Но это вполне естественный феномен, и тут уж ничего не поделаешь. Не могу сказать, замечает ли его сам Флориан. Он садится на камень, достает из кармана колбасу и принимается нарезать ее очень тонкими, очень ровными ломтиками. Ест. Не знаю почему, но мне вдруг вспомнился Мекки Нож из «Оперы нищих» [32]. Он именно так одевался… Ну точно! Безобразно кричащий клетчатый костюм, черная рубашка, белый галстук. В галстуке он носит чрезвычайно примечательную, если брать во внимание его костюм, булавку: золотой крестик с прибитым на нем Христом. В некотором смысле трофей. Это была его первая награда, сразу же ставшая самой любимой. Все мы храним сентиментальную нежность к первым поощрениям, полученным в начале нашего школьного пути.
У Флориана очень необычное лицо. Костистое, плоское, и кожей оно обтянуто словно бы только для порядка. Глаза тусклые, веки без ресниц. Лицо немножко смахивает на морду черепахи, знаете, такой древней, доисторической рептилии. Тем не менее про это лицо нельзя сказать, что оно неприятное. Отсутствие выражения или, скорей, застывшее тусклое выражение. И на мысль приходит, что жизнь, наверно, исполнила все его желания, дала все, что она способна предложить.
Читать дальше