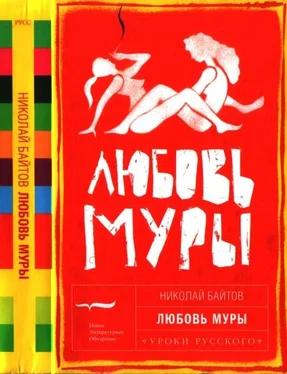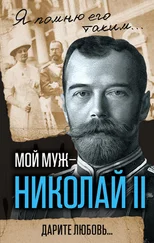Мёрзну я, Ксенёчек, невероятно. Нагреваюсь после обмывания холодной водой под 2-мя тёплыми одеялами. Вспоминаю Вас, такую закалённую к холоду (сон при открытых дверях в палате, на веранде), и умиляюсь. В своей записной книжке я делаю кое-какие наброски своих впечатлений о Вас. Увидевши их, Пётр был бы в негодовании — он не любит, когда я даже к женщинам привязываюсь. Скоро надо все «компрометирующие» следы уничтожить, чтобы не было раздражающих меня разговоров…
18/XII.
Ксеничка, не отослала ли я Вам случайно письмо, адресованное «Льву Яковлевичу»? В тот вечер я многим писала, наскоро запечатывала в конверты, и к нему попали листки, писанные Вам, что мне и было возвращено. Я была оскорблена этим человеком, так внешне культурным. Это брат моей бывшей учительницы, человек намного старше меня. Он мне немного нравился, с ним было не скучно. Ну да чёрт с ним, как Вы и поняли из письма, он мне не нужен. Одно хорошо, что я в тот вечер не писала Петру, иначе могла получиться такая ошибка и с его письмом. Я употребляю такую бумагу и в письмах к нему, т. е. когда не хочу много писать. В этих листках я столько писала о своём отношении к Вам, и представьте себе этого человека (недоумение и возмущение), когда он их перечитывал, силясь что-нибудь сообразить…
Я всё гадаю — удастся или нет мне хотя бы в феврале съездить в Москву? О своём желании (которое меня бодрит) я никому дома не говорю, т. к. последует много разговоров. До чего нелепо — я взрослый, самостоятельный человек, и должна скрывать такие скромные планы. Я очень нездорова, и здравый смысл говорит, что в таком состоянии не следует выезжать, а необходимо подлечиться. Боли всё обостряются, мешают работать. Теперь скажу Вам откровенно — в Москве я голодала, как никогда и нигде — денег было невероятно мало, а дикая щепетильность не разрешала одолжить. Ела один раз в день и всякую гадость. Мне только хватило на проезд домой трамваем. А как я выкручивалась перед своими знакомыми на вопрос, что я захватила с собой в дорогу? После такого режима состояние ухудшилось, а сейчас я становлюсь прямо неработоспособной. И как мне пригодились тогда Ваши 20 р.! Обыкновенно деньги идут у меня «легко», незаметно я трачу иногда большие суммы, а в Москве я узнала цену копейкам.
Итак, если мне не станет легче, вырваться будет тем труднее, но я живу сейчас мечтой встретиться с Вами. Если Ваше желание видеть меня равняется хотя бы половине моего, то я довольна. Но таких сумасбродок мало, и навряд ли Вы думаете об этом.
Утром прощальный, а вечером приветственный я ежедневно бросаю взгляды на Ваш снимок.
У нас на территории площадки уже залит каток, но я навряд ли скоро смогу воспользоваться прелестями зимы. Этот год подкосил меня, и я сразу постарела. Нам осталось уж не так много дней для любованья этой красотой, и, между прочим, обидно, что такое восприятие приходит только с годами. Снова приходят на память слова Пушкина:
Я говорю: промчатся годы
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдём под вечны своды
И чей-нибудь уж близок час.
Не раздражает ли Вас минор моего письма, родная? Но такое опустошение и такая неудовлетворённость. Живу сейчас бесполезно, что прямо-таки преступно. Все годы помимо работы я чем-то увлекалась, — например музыкой. В этом и благословение моей природы, что я поступала и жила под таким девизом:
Стремиться и… познать
На миг припасть, вбирая…
Отбросить и опять
уж мчаться к новым далям
[ Две вертикальные черты бледными чернилами отмечают это четверостишье — и надпись: «Относится и ко мне!». Как странно видеть наконец-то Ксенин почерк: он совсем на Мурин не похож. ]
Фотографии жду с нетерпением. В долгу не останусь: как-нибудь вышлю на время и снимок Петра. Он давно мне не пишет, дней пять нет писем. Может опять тренирует себя в выдержке.
Моя дорогая, мой приезд в Москву никогда не был бы для меня концом нашей нежной дружбы. Слишком много у нас общности в понимании жизни [ последние слова Ксеня подчеркнула чернилами, волнистой линией ],в толковании её, хотя формы самого воспринимания, пожалуй, разные. У меня они грубей, вульгарней, у Вас тоньше.
Сейчас Катя (сестра) учит Иду делать стежки иголкой, и я временами, поднимая голову, слежу за ея сосредоточенным лицом. Как она огорчает меня своим поведением. Она лжёт, что для меня является наибольшей мукой. Я лгала матери всегда, но там ложь была самозащитой, а у нея ложь в самой природе — это унаследовано от отца.
Читать дальше