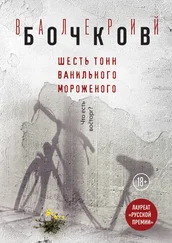Когда я очухался, она сидела на другом конце кровати, сложив ноги по-турецки. Разглядывала меня и улыбалась. Солнце, похоже, уже закатилось, в спальню вползали сумерки. Кожа Розалин казалась теперь совсем темной, матовой, словно бархат. Кисти ее рук лежали на коленях. Я перевел взгляд на плоский, мускулистый живот. От пупка вниз шла едва заметная темная полоса, словно полустертый след от карандаша. Волосы на лобке, вороные, жесткие, раскрывались посередине розовой, влажно блестевшей складкой. Приподнявшись на локте, я сунул под голову подушку.
– Иди сюда. – Я сухо сглотнул, поманил рукой.
Она хитро засмеялась, помотала головой.
– Иди, иди…
Подавшись вперед, я ухватил ее за предплечье, потянул. Она ойкнула и упала на меня. Ее волосы щекотали мне лицо, я нашел губы, пухлые и горячие. Сжал ладонями ее ягодицы, прижал к себе. Она выгнула спину, словно потягиваясь спросонья, долго и сладко. Разведя ноги, сжала мои бедра. Кошачьим движением приподняв зад, подалась назад, потом вперед, будто устраиваясь поудобней. Застыла на миг и медленно, со стоном опустилась, вжавшись в меня упругим лобком.
Я целовал ее шею, плечи, горячую и липкую грудь. Слизывал ее пот, вдыхая этот чужой запах – пряный, едкий, как тягучий нектар какого-то тропического фрукта, с легкой горчинкой перезрелой кожицы. На ощупь тело оказалось как бы меньше, компактней. Кто-то в моей голове ехидно произнес: «С непривычки, четырнадцать лет белотелой скандинавской сдобы – это вам не фунт изюма».
Думать о Хелью было нельзя, назад пути все равно не было. Я замычал, уткнулся в плечо Розалин. Сипло дыша ртом, она поймала ритм, начала двигаться все энергичней, напористей. Иногда вскрикивая и запрокидывая голову – тогда я видел, как жутковато закатываются ее зрачки, словно она теряла сознание. Ее ладные мускулистые ягодицы, потные и горячие, выскальзывали из моих рук, я снова ловил их, сжимал, словно хотел раздавить.
Розалин впилась в меня острыми малиновыми ногтями, ее дыхание перешло в стон, она выпрямилась, конвульсивно выгнула спину, стремясь вогнать меня еще глубже. Три, четыре, пять – раз за разом медленнее, тяжелее, словно теряя последние силы, словно умирая. Потом рухнула на меня, уткнув лицо в подушку. Ее безжизненное тело, вялое и горячее, вдруг показалось мне невероятно тяжелым.
Потом, внизу, в гостиной, она сидела в разлапистом кресле, поджав под себя ноги, а я пытался развести огонь. Розалин закуталась в клетчатый плед, из которого торчала ее смуглая рука со стаканом какого-то ликера, который она выбрала из алкогольной коллекции Лоренца. Дрова гореть не хотели, я комкал газету, поджигал, бумага вспыхивала и сгорала.
– Так почему ты все-таки убежал? – спросила Розалин. – По сравнению с русским приютом у тебя там была райская жизнь.
– По сравнению с русским приютом любая жизнь покажется раем, – засмеялся я. – Дурак был, вот и убежал.
– Дурак, – повторила она. – Как просто!
Газета весело занялась, я бросил спичку в огонь, с надеждой глядя на рыжее пламя. Мне не хотелось вспоминать ту давнюю историю, еще меньше – рассказывать. Да и что я мог рассказать?
Блейки – Джеймс и Оливия, семья, усыновившая меня – были первыми людьми, которые отнеслись ко мне по-человечески. Неожиданно я оказался в ярком, радужном мире книжек с картинками, утреннего апельсинового сока, чистых простыней, солнечных лужаек, приветливых лиц. Даже посторонние люди улыбались мне – хромой негр-почтальон, старушка-соседка с выводком болонок, полицейский на мотоцикле, случайные прохожие. В школе никто не резал бритвой карманы, никто не пытался подкараулить в сортире с заточкой, никто не воровал мои аккуратно завернутые завтраки. Физрук не смазывал свой хер топленым салом и не пытался изнасиловать в раздевалке, учителя не отвешивали оплеух и вежливо обращались по имени, не прибавляя слова «выблядок».
В декабре, под Рождество, у Оливии обнаружили рак, в августе мы остались с Джеймсом вдвоем. Если не считать лучшей подруги покойной по имени Дорис, вкрадчивой стервы с бесцветным лицом и острыми коленками, утешавшей нас – вдовца сорока лет и меня, вновь осиротевшего сироту. Дорис оставалась ночевать у нас в гостевой спальне над гаражом, а ночью я слышал ее придушенные стоны из комнаты Джеймса. Меня это не удивляло, его я не винил – в конце концов, я вырос в приюте, и мое представление об интимных отношениях особым романтизмом не отличалось. Однажды я подслушал, как Дорис рассуждала о возможности отправки меня назад в детдом: «Почему нет? Ведь я могу вернуть диван, если мне разонравилась обивка?» Меня не оскорбило сравнение с диваном, меня потрясло, что Джеймс молчал. Мерзавка продолжала тараторить, а он, мужик, молчал. Вот это я счел настоящим предательством.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
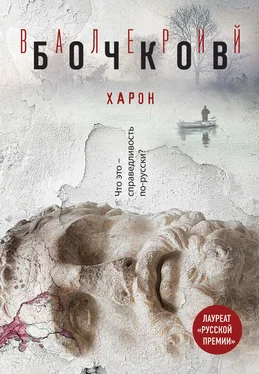
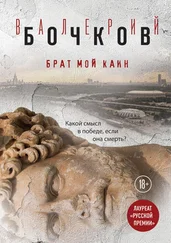
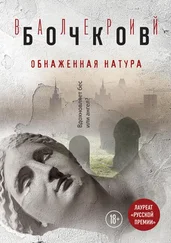






![Валерий Бочков - Ферзевый гамбит [сетевая публикация]](/books/394455/valerij-bochkov-ferzevyj-gambit-setevaya-publikaciya-thumb.webp)