А вот почему такая книга сумела однажды совратить целое поколение культурного европейского народа, понять необходимо. А запрет этой книги — тем более что он в наше время абсолютно бесполезен и может носить исключительно символический характер — ничего объяснить не сможет.
Формально вроде бы все правильно: в стране, где когда-то, в первой половине прошлого века, установилась человеконенавистническая идеология, приведшая известно к чему, официально издали книгу, легшую в основу этой идеологии. Как это возможно?
А вот так это возможно, что страна и ее общество, которые сумели проделать важную, необходимую мучительную нравственную работу, уже могут позволить себе не таить свои скелеты в шкафу. Потому что они победили. Они победили не с преступной книгой в руках. Они победили саму эту книгу, и она им уже не страшна.
Градус праведного негодования примерно таков, как если бы рядом с Бранденбургскими воротами в наши дни установили бы конную статую Гитлера.
Но в наши дни рядом с Бранденбургскими воротами не стоит памятник фюреру Там стоит памятник жертвам Холокоста.
И вот кто-то из чудом выживших жертв вернулся на одно из самых зловещих мест в истории, чтобы там станцевать.
Но и тут раздаются голоса о “кощунстве”, а вы как думали.
Ага, а “если бы в мечете”. А если бы на могиле ваших родителей? А вам бы понравилось, если бы пели и танцевали там-то и там-то?
Да, понравилось бы. Мне вообще нравится, когда на месте смерти танцует жизнь. Веселье не оскорбительно.
Когда танцуют, радуясь смерти, это одни танцы. Когда танцуют, радуясь жизни и утверждая ее победу над смертью, это другие танцы.
Когда танцуют от чувства любви — это одни танцы, когда танцуют от чувства ненависти — это другие танцы.
И не видеть разницы между “плясками смерти” и “плясками жизни” есть признак нравственного дальтонизма.
Да, существует такое риторическое клише, как “пляски на костях”. И эта формула настолько завораживает, настолько парализует интеллектуальную волю и живое чувство, что заслоняет самое главное: временной, пространственный, личностный, нравственный и эстетический контекст этих самых “плясок”.
Зачем плясать на месте скорби и мучительной памяти? Не кощунственно ли это? Нет, ничуть. Кто-нибудь бы другой сплясал, то да, возможно. А этот старик — нет. Вот уж кто имеет право!
И не столько важно, ЧТО сказано, как важно, КТО говорит, КОГДА, КОМУ и с КАКОЙ ЦЕЛЬЮ. И в этом существенно больше живого содержания, чем в самом глубокомысленном высказывании, лишенном контекста.
Старик, станцевавший в Освенциме, — выжил. Немцы, могущие позволить себе без боязни массового отравления издать книгу, которая, да, сыграла свою зловещую роль в их трудной истории, — выжили.
Канцлер Германии встал на колени в Варшавском гетто. Бывший узник нацизма, выживший и доживший до девяноста лет, станцевал в Освенциме. Европейская культура второй половины XX века опасливо озиралась и продолжает озираться на прославленную формулу “Возможна ли поэзия после Освенцима”. Теперь можно сказать, что и танцы, и книги, и многое прочее уже существуют после “поэзии после Освенцима”.
Начну с одного вполне анекдотического и несколько пикантного сюжета.
Давний мой знакомый рассказывал мне когда-то о том, как однажды где-то на юге он познакомился с одной милой барышней. Ну, и стал за ней ухаживать, естественно.
Она ему нравилась всем, кроме одного: ее речь казалась ему несколько неестественной, отмеченной чрезмерной литературщиной и страстью к “умным”, не всегда уместно употребляемым словам, что часто бывает у полуобразованных людей. А он был филолог и поэт к тому же.
Апофеозом этой ее досадной манеры стал тот момент в довольно стремительно наступившей патетической стадии их знакомства, когда она некий существенный в данном контексте орган своего мимолетного возлюбленного назвала зачем-то “фаллическим символом”.
“Я даже как-то оскорбился, — рассказывал он, — Чо это вдруг символ-то! Вовсе не символ! А самый даже настоящий”.
Это, впрочем, анекдот. Но ведь и правда же существуют люди (и их много), которые не умеют отличать символическое от реального.
Этот тип сознания основан на допущении, что эфемерный символ способен уплотняться до состояния реального объекта, оживать и начинать действовать наподобие той самой статуи Командора, которую один неугомонный бабник неосмотрительно пригласил на ужин, поплатившись за свою дерзость смертоносным пожатьем каменной десницы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу




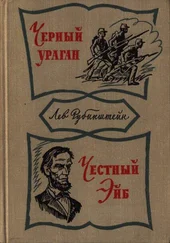
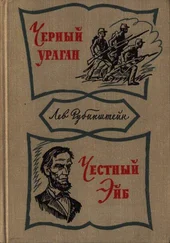




![Лев Рубинштейн - Что слышно [сборник]](/books/422824/lev-rubinshtejn-chto-slyshno-sbornik-thumb.webp)
