Да и я сам, видимо, за сам факт своего появления на свет должен быть по гроб жизни благодарен родному государству в лице товарища Сталина, еще в 1936 году предусмотрительно запретившего аборты.
И повсюду во все времена чаще других звучали фразы, начинавшиеся со слов: “Скажите еще спасибо, что… ”
Скажите еще спасибо, что не убили, не посадили в тюрьму, не выселили из дому, не отняли последнее. Спасибо!
Известно, что ворчат и злопыхательствуют лишь неблагодарные. И когда неблагодарных время от время за их неблагодарность “ставят на место”, остальные должны благодарить родные органы за бдительность и своевременную прополку монохромного и преисполненного лютой благодарности народонаселения.
Получалось всегда так, что здесь никто сам себя не кормил и не содержал. А всякий труд был лишь проявлением сыновней благодарности за неустанную заботу партии, правительства и лично всякого, кто на текущий момент был самый главный. Всенародная благодарность выражалась в тоннах угля и чугуна, центнерах пшеницы, литрах молока с коровы, километрах текстиля и, наконец, в создании ярких художественных образов, которые прославляли все то же государство или в крайнем случае “человека труда”, который, в свою очередь, был благодарен все тому же государству, которое… В общем, дом, который построил Джек.
Чувство благодарности вообще-то присуще нормальному цивилизованному человеку, который всегда бывает благодарен врачу, спасшему ему жизнь, учителю, научившему его уму-разуму, случайному прохожему, показавшему ему дорогу. Он может и должен быть благодарен хорошему музыканту, автору понравившейся книги, виртуозному повару. Он может сказать спасибо судьбе и жизненным обстоятельствам, благодаря которым он иногда чувствует себя счастливым или хотя бы везучим. Если он религиозен, то он точно знает, кого и за что ему благодарить. Но вот государство-то тут при чем? Труба-то?
Холопу незнакомо чувство благодарности. Он никогда не был и не будет никому и ни за что благодарен. Именно — никому. Потому что государство безлично, потому что оно “никто”, хотя и часто персонифицировано. Но и государству он вовсе не благодарен. Благодарности он требует от других, потому что он и сам себя воспринимает как клетку государственного организма, так же как холоп прежних времен полагал себя составной частью господского мира.
И никогда холоп не ощущал и не будет ощущать себя хозяином своей судьбы. Ни тогда, когда он голоден и оборван, ни тогда, когда он — как теперь — сыт, одет, обучен кое-какой грамоте, лоснится от самодовольства, любит употреблять слово “невежество”, втихаря прикладывается к господскому шампанскому и очень рвется поскорее в Париж. Ну, вроде как мерзопакостный лакей Яша из “Вишневого сада”. Помните такого?
Мне хорошо известны люди (хотя, скажу попутно, их становится все меньше и меньше), люди вполне приличные, образованные и, можно сказать, социально и культурно близкие, которые публично артикулируют свою лояльность режиму и свое граничащее с презрением неприятие либерального, протестного дискурса, преобладающего в той среде, из которой они сами вышли и в которой с относительным душевным комфортом существуют и теперь.
С ними, если, конечно, они в своем азарте не переходят границ элементарных приличий, здороваются, спрашивают у них, как дела, иногда совместно выпивают, избегая, впрочем, в разговорах взаимно огорчительных тем.
Эти люди, в том числе и тогда, когда их “особая позиция” становится профессией и конвертируется не только в нравственно-интеллектуальные, но и в более вещественные признаки собственной состоятельности, любят объяснять некоторый, скажем так, экзотизм этой своей позиции не столько в позитивных, сколько в негативных категориях. Например, своим нежеланием “впадать в стадное чувство”, нежеланием “ходить строем”, нежеланием “ПЕТЬ ХОРОМ”.
Так вот, друзья мои. Как человек, все свои школьные годы пропевший хором, причем в самом буквальном смысле, скажу вот что.
Стройный и, главное, на добровольных началах сформированный хор никогда не превращается и не превратится в разрушительную толпу.
Хор — это счастье и освобождение, причем не только коллективное, но и, как ни странно, персональное. Хор — это, собственно, идеальная, почти недостижимая в обыденной жизни модель созидательного и очистительного “общего дела”.
У Честертона есть эссе, которое так и называется — “Хор”. И там есть такое чудесное место:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
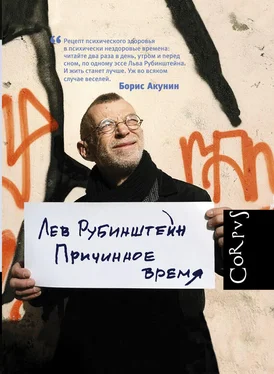



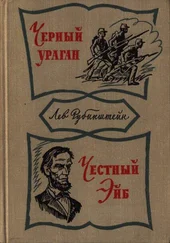





![Лев Рубинштейн - Что слышно [сборник]](/books/422824/lev-rubinshtejn-chto-slyshno-sbornik-thumb.webp)
