А в антракте развеселая компания — не из шекспировской Иллирии, а с 1-й Красноармейской, из публики — решила сфотографироваться…прямо на той скамейке, что стояла на сцене. Артисты как раз выходили на последний акт и успели к вылетавшей птичке. Хватит тебе о театре?»
Уже давно хватит.
Ах, когда я вернусь.
Галич
За два дня газоны покрылись листьями. В Санкт-Петербурге дует сильный холодный ветер. Может быть, он дует с Балтики. Я ее еще не видел. С таким названием ездят только бочки с преуспевающего пивного завода. Пиво подешевело, а аппетит за последние дни значительно снизился. В поезде Москва — Ленинград в обычном купированном вагоне кормят завтраком. Дают самолетный набор и копченую колбасу не по зубам. Москва — это не Россия. Такой перепад я видел только в Берлине. Западный турист переезжал в Восточный Берлин и начинал трепетать от ужаса. Москва — это нормальный европейский город. Не бедный и не наглый. В метро и в лифтах — светло. Чистая рябина на деревьях. Целый асфальт во дворах. Собаки породистее нас. В Москву, в Москву!
В Петербурге решена проблема старушек. Обычные люди, не старушки, ездят на автобусе с пометкой «Т». Это большие автобусы, довольно чистенькие, с мягкими сидениями. Всегда можно культурно ехать сидя. Пьяных в них нет. Ходят такие автобусы очень часто, очень быстро, и если пассажиров нет, то понапрасну они не останавливаются. Но уж если они видят пассажира, то и подождут тебя, и двери придержат. Только если ты не старушка. А для старушек существует специальный вид автобусов, без пометки «Т», которые ходят редко и медленно. Вот туда они почему-то все и лезут. Представляете, едет автобус, набитый старушками, останавливается около базара, и туда втискивается еще куча старушек. Висят на подножке, орут, но все равно рвутся внутрь. Комедия, сколько их набивается. Денег они не платят, потому что по пенсионным удостоверениям в этих автобусах им платить не нужно. Езди сколько хочешь, вот они и ездят. Если вы не старушка, я вам советую ездить в «Т».
Виктор Суворов продается на книжных прилавках, но его не упоминают. Как будто его нет на свете и военная история двадцатого века не переписана набело.
Я еще не был в Царском Селе, я еще не был в Павловске. За город не выбраться, мой день посвящен выживанию.
Сорокалетняя молодящаяся доцент выпила на кафедре и дальше ничего не помнит. Очнулась во дворе без сумки и пальто уже под утро. Зав. кафедрой тоже ничего не помнит. Кажется, не изнасиловали, но она не помнит.
Мой социальный статус очень низок. Ниже, чем в Израиле. Там я относился к подклассу мелких ремесленников — развозка мебели. Здесь я просто — никто. Бывший врач. Счастье еще, что никто не спрашивает: «Вай, итс э найс бизнес!» Никому не известный писатель. Израильский паспорт тоже меня особенно не красит. Евреев на улицах я не вижу. Может быть, они остались только в правительстве. В семидесятые годы был анекдот: «Последний еврей! выключите за собой свет в Шереметьево!» Сейчас свет будут выключать в Кремле. Но от политики я очень далек. И голосовать не хочется ни за кого.
Говорят, что антисемитизм усилился, но я не чувствую. За три месяца одна-единственная женщина, глядя на рекламу петровских сигарет, начала кричать, что ее придумали евреи.
После выступлений Макашова уличный антисемитизм не стал заметнее.
Ленфильм занят чеченцами. Они бродят по коридорам и страстно говорят о своем. И на своем. Леша Герман переделывает старую картину. Больше просто никого нет.
Уборные заколочены.
Все время так хорошо, что сердце выпрыгивает из груди. Мне уже девяносто второй день хорошо. Мне все еще не привыкнуть.
Кое-где трехметровыми буквами написаны хорошие слова про советский народ. Дорого снимать. Пьяных намного меньше, чем раньше, на тротуарах никто не лежит, даже доценты. Возле нашего метро несколько постоянных пьяных парочек с перебитыми мордами, похожи на пьяных индейцев на Западе Канады.
Федя говорит: «Послушай, одну вещь тебе скажу, пожили здесь, а теперь давай возвращаться в Иерусалим». Я обещаю ему Деда Мороза, мне не объяснить трехлетнему мальчику принцип мышеловки: Израиль всех впускает, но никого не выпускает.
Музеи мертвые. Музеи в музее. Смотрители спят и с них можно тряпочкой вытирать слой пыли. Через сто лет они проснутся.
Русский музей очень вялый. Но я первый раз в жизни увидел Филонова. Застыл как вкопанный и еще долго приходил в себя. Мощнее всего окружающего на пять порядков. Мировая провинция и скука. Но Олег Киреев, дружок Верника, сказал мне: «Не надо трогать, сука, моего русского музея!». Но все равно, Филонов мощнее всех.
Читать дальше






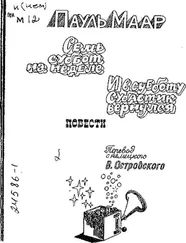

![Полина Люро - Ты вернулся [СИ]](/books/385014/polina-lyuro-ty-vernulsya-si-thumb.webp)