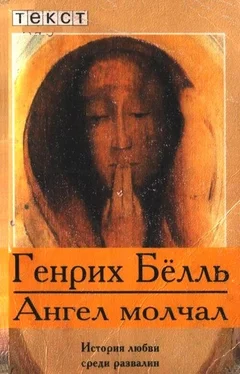Сейчас он явственно различал в темноте эту бутылку — она стояла на комодике и казалась узенькой полоской света. Эта полоска света, то есть бутылка, была пуста, и на ковре, где лежали китель, брюки и пояс, должна была валяться и пробка от нее…
Потом он обнял ее одной рукой, держа в другой зажженную сигарету. Они не сказали друг другу ни слова, все их свидания были отмечены этой немотой. Он раньше всегда считал, что когда-нибудь сможет свободно разговаривать с девушкой, но эта ничего не говорила…
Небо за окнами все темнело, смех курортников на террасе угас, женское хихиканье сменилось зевотой, а чуть попозже он услышал более громкое звяканье бокалов — это кельнер захватывал их по четыре-пять штук в руку и уносил прочь. Потом унесли и бутылки — звук был более низкий и сочный, под конец сняли скатерти, составили друг на друга стулья, сдвинули столы. Он услышал, как уборщица долго и очень тщательно подметала пол: казалось, вся ночь состояла лишь из движений щетки в руках этой невидимой и очень добросовестной женщины. Она делала свое дело почти бесшумно и совершенно спокойно, ритмично и легко; он слышал шарканье щетки и мысленно видел, как эта женщина движется от одного конца террасы до другого. Потом раздался усталый испитой голос, спросивший из открытой двери:
— Еще не кончила?
И женщина ответила так же устало:
— Да вот, заканчиваю…
Вскоре после этого за окнами все затихло, небо стало темно-синим, и откуда-то издалека все еще глухо доносилась музыка.
А часы тикали. И с каждой минутой, что уходила в вечность, он все больше удивлялся, что еще жив. И все так же на комоде стояла пустая бутылка — едва заметная блеклая полоска во мраке.
Женщина, лежавшая рядом с ним, вдруг испуганно вскинулась и посмотрела ему в глаза. Она была очень бледна, лицо осунулось, глаза в этой бархатной темноте казались огромными, а темно-русые детские кудри делали ее совсем молоденькой. Она поглядела на него отчужденно, почти враждебно, потом закрыла глаза и взяла его руку в свои…
Так они лежали рядом, пока не рассвело. Винная бутылка медленно выплыла из черноты — светлая полоса, становившаяся все шире и ярче, а потом обретшая и округлую завершенность. Стали видны валявшиеся на полу китель с грязным подворотничком и пояс с четкой выпуклой надписью на пряжке «С нами Бог!», аккуратным кольцом окружавшей государственный герб со свастикой…
Покуда он думал обо всем этом, упершись взглядом в стену, световой треугольник поднялся еще сантиметров на пятнадцать и стал желтым, ярко-желтым, так что Ганс решил, что время подошло к восьми часам. Он резко обернулся, услышав скрип пружинного матраца, и увидел, что она встала с кровати, босиком подошла к столу, придерживая полы пижамы, собрала в охапку набросанную на него одежду и прочие вещи и, перекинув все это через согнутую в локте руку, пошла было к двери, но остановилась подле него, сунула ноги в туфли и тихо спросила:
— Когда же она умерла?
— Позже, когда ее эвакуировали, — ответил он, обрадованный, что вновь может говорить. — Их поезд разбомбили, и ее тело нашли на полотне между рельсами. На нем не было никаких ран. Мне кажется, что она умерла от страха… Она была очень боязлива.
— Ты бы хотел, чтобы она сейчас была жива?
Ганс удивленно посмотрел на нее: он никогда еще об этом не думал, но ответил тотчас:
— Нет, не хотел бы… Я рад за нее…
Она начала застегивать черный халат, перебросив одежду через плечо.
— Пойду оденусь, — проронила она.
— Вот как, — сказал он и, прежде чем она вышла, успел спросить: — Значит, у тебя есть еще одна комната?
Она на секунду залилась краской — кровь вмиг окрасила ее бледное лицо и так же быстро исчезла.
— Да, но я боялась остаться одна — прошлой ночью ребенок еще был со мной…
Она вышла, и Ганс услышал, как она прошлепала по коридору и открыла дверь где-то в глубине квартиры. Он поднялся и подошел к окну…
Сдвинув вбок щеколду и распахнув створки ставней, он невольно зажмурился: снаружи сиял яркий солнечный день, и в заброшенном парке, что раскинулся на той стороне узенькой улочки, все цвело и зеленело. Ему показалось, что листва деревьев никогда еще не была такого яркого сочного цвета и такой густой, на небе не виднелось ни облачка, и птицы щебетали в кустах. Эта птичья разноголосица звучала так звонко и жизнерадостно…
Далеко-далеко, позади садовых участков, над насыпью железной дороги он увидел обугленные развалины города, его разодранный мрачный силуэт… Он ощутил глубинную, сверлящую боль и быстро закрыл ставни. В комнату вернулись сумерки и покой, птичий щебет умолк, и он только теперь понял, почему она не хотела открывать ставни.
Читать дальше