Решение, вспыхнувшее в ее сознании, было внезапно. Отчета себе в том, что ждет ее там, за порогом, который она решилась переступить, она не отдавала. Пусть там будет все что угодно, лишь бы не видеть и не слышать этих противных, растоптавших ее счастье людей!
Торопливо, но бережно, так, чтобы не разбудить мальчугана, она положила его в зыбку, всунула ноги в стоявшие подле нее валенки и схватила юбки. Руки ее дрожали, и она плохо владела ими. Так же плохо понимала она то, что делала: погода стояла сырая, изморосная, и надо было надевать не валенки, а штиблеты. Но сейчас ей было все равно. Надвигался рассвет, и каждую минуту могли встать работники и Наумовна. Ребенка она завернула в байковое одеяльце, а сверху — в полы накинутой на плечи шубы; под мышку взяла скудный, с детским бельишком, сверток. О тех вещах, первоочередных, которые понадобятся ей самой, она не подумала. Да и некогда было думать. И не могла. Как бы прощаясь, с тоской взглянула на свой девичий полинявший сундук, хранивший ее немудрые наряды, на покачивающуюся зыбку — это было все родное ей в этой комнате — и потихоньку вышла из спальни.
Через огромный пустой зал, где хозяева иногда принимали гостей, она прокралась в теплый коридор, и густая темь залила ей глаза. Пахло просыхавшей одеждой и обувью. В углу надсадно верещал сверчок. Из комнаты свекра и свекрови доносилось сонное дыхание. Боясь повалить в темноте что-нибудь и наделать шуму, Надя ощупью пробралась по-над стенкой к двери и, сняв крючок, открыла ее. В холодных сенях в суматохе она едва не столкнула пустые, стоявшие на скамейке ведра. Загремев ими, успела придержать их рукой.
Теперь оставалось самое трудное: открыть четвертую, наружную, дверь, запертую двумя тяжеленными засовами. Мысленно умоляя ребенка не плакать, она с трудом оттянула нижний засов, и вдруг ей почудились шаги и кашель в теплом коридоре. Вся трепеща, она нашарила рукой железную полосу, дернула ее и, выронив из-под мышки бельевой сверток, путаясь в полах шубы, сбежала с крыльца. Знобкий предрассветный ветер плеснул в ее горячее и потное лицо крупой и мелким дождем.
Уже будучи далеко от двора Абанкиных, она перевела дыхание и насторожилась — не гонятся ли за ней? Но услышала только протяжные петушиные крики да свое колотившееся, готовое вырваться наружу сердце. Шагнула к низенькой под соломенной крышей хатенке. С нее, шурша и булькая, падала капель. Полы дубленой шубы были так мокры — хоть выжми, а валенки набухли и отяжелели. Она только тут заметила, что одеяльце на ребенке почти развернулось и он, прижатый к груди, часто вздрагивал всем своим маленьким тельцем, крутил головой. «Бедненький! За что же ты-то еще принимаешь муки?» — с невыразимой болью в сердце подумала она. Прислонилась к выдававшемуся в стене бревну, укутала ребенка и, поразмыслив с минуту — куда же теперь? — медленно, обходя лужи, свернула в узкий глухой переулок, пугавший ее непроглядным мраком.
* * *
Утром Надя проснулась поздно. Сквозь тусклое, запотевшее окно пробивались лучи солнца, падали на зеркало и, дробясь, жидким отблеском озаряли ее лицо. Еще не придя в себя, она повернула на подушке голову и потянулась. В ногах у нее загромыхали табуретки. Сундук, на котором она лежала, был короткий, и к нему, чтоб удлинить постель, были приставлены табуретки. Надя открыла глаза и, недоумевая, — где это она? как сюда попала? — осмотрелась.
Под боком у нее, уткнувшись носиком в подушку, посапывал ребенок; на голом плечике его мягко горел луч. Комната — тесная, мрачная, с земляным полом. У порога топтался приземистый старик, натягивал кожаные рукавицы. Шапка его из линялой седой овчины была надвинута до бровей, нагольный полушубок сплошь в заплатах. Надя угадала в нем деда Парсана. Над кухонным столом молодая разрумянившаяся женщина просевала муку. То была Феня. Вдруг Надя вспомнила все, и в груди ее больно сжалось. В новую, неведомую жизнь вступила она, и страшно было подумать, каким боком эта жизнь повернется к ней, к ее ребенку — одиноким и беззащитным. Стесняясь деда Парсана, она потихоньку натянула на себя одеяло и зажмурилась. Дед пошуршал полушубком, похлопал рукавицами и вышел. Надя поднялась на локте.
— Выспалась? — ласково улыбнувшись, спросила Феня. — Завтрак уже поспел, вставай. — Она достала из-под кровати свои праздничные штиблеты, отерла их тряпкой, затем стащила с печи Надины просушенные валенки. — Надевай чего хочешь. Во двор — в моих штиблетах можно, они, ей-правушки, как раз тебе будут, а в хате можно и в валенках. Я их на горячее ставила, просохли. Были такие, что…
Читать дальше




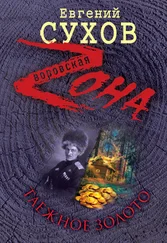





![Николай Сухов - Донская повесть. Наташина жалость [Повести]](/books/212684/nikolaj-suhov-donskaya-povest-natashina-zhalost-p-thumb.webp)
