— Уголовье, да и только! — рассказывал полицейский каждому встречному. — Милосердная-то сестра — кляп ей в дыхало! — за малым не употчевала вахмистра. Щеку так ему развернула — рукавицы выкраивай. Вовек, должно, не срастется.
Любопытные один за другим вваливались в накуренную самосадом комнатенку, протискивались к столу. Поцелуев, напоминавший в своей бурке большую подбитую птицу, сидел подле атамана, у окна, уже заделанного. Один глаз у него злобно посверкивал; на месте другого, совершенно заплывшего, видны были только смеженные веки. Вся скула была рассечена.
— Как же это ты, Митрич? А-я-яй! И пустил, стало быть?
— Ну, едрена шиш, и девки-любушки пошли!
— Самого Поцелуева… лихо!
— Да чепуха! Мне на кулачках перед тем годом, как войне быть…
— Идите, идите отсюда, ради бога, идите от греха, — добром упрашивал атаман, — Что уж вы… повернуться негде. Дайте же нам дело обсоветать! — И, видя, что хуторяне не только не уходили, но все плотнее набивались в правление, повысил голос: — Стенке я говорю или кому! Сказано вам, не мешайте! Ну!
Подталкивая крайних набалдашником насеки, атаман выпроводил любопытных в коридор и только что хотел было прикрыть дверь, — в щель всунулась сухонькая, запачканная чернилами рука, державшая мятую, свернутую трубочкой ученическую тетрадь.
— Тимофей Михалыч! — закричал из-за двери прижатый к стене писарь, — Все как есть, до самой грани вчера с Фирсовым обшагали. Тут вот размечено… Да куда ты!.. Вот чурбан с глазами! Отслонись же!
Атаман тупо оглядел эту синюю захватанную тетрадь с табличкой умножения на обложке, ткнул в нее своим громадным, что конское копыто, ногтем:
— Убери! Приспичило тебе! Не до того сейчас! — и захлопнул дверь.
Поцелуеву не терпелось сорвать зло, отомстить. Он домой даже не заглянул. С дороги — и прямо сюда, в правление. Требовал, чтоб над арестованными немедля учинили самосуд. Раз, мол, на то пошло, раз уж ссора дошла до точки, нечего с ними, ревкомовцами, церемониться. Давно уже пора найти им укорот. Он вчера намеревался это сделать — случай-то удобный был. Да ему приказано было представить Парамонова, по возможности, в натуре. Он и послушался. Выходит, зря послушался.
Но атаман, сам еще только вчера воевавший с ревкомовцами с таким пылом, сегодня был настроен уже менее буйно. Какая ворожка предскажет, думалось ему, что будет завтра или даже через час? А ну-к да эта баламутная девка и в самом деле приведет войско? Он-то, Поцелуев, на коня, и поминай как звали — в Алексеевскую, к Дудакову. А ему, старику, куда тогда податься? Ему хоть бы на печку без подсадки влезть. И пока суд да дело, пока эти ревкомы разгонят, его тут как миленького вздернут. Оно конечно, двух смертей не бывает, одной не минуешь. Но все же лучше умереть на печке, и лучше завтра, чем сегодня.
— Ты вот что, Митрич, ты дюже-то не пори горячку, не к чему, — урезонивал он Поцелуева. — Ревкомовцы к небу авось не поднимутся. Сходи-ка пока к фершалу, на тебя ведь срамотно глядеть. А я кликну полицейского, пошлю к Абанкиным. Сергей Петрович придет — и мы сообща, стало быть, и решим. Время пока терпит. Ежели эта… самая… ежели ее ждут там, в округе, и приведет красногвардию, так никак не раньше — к ночи только.
Недовольный Поцелуев сдвинул свою черкесскую шапку на макушку, как бы показывая этим, что по фельдшеру он не особенно скучает, и защелкал плетью по голенищу сапога, с налипшей конской шерстью. А атаман навалился грудью на ломаный стол и, вяло, с хрустом в костях поднимаясь на ноги, закряхтел:
— Охо-хо, жизнь ты наша тяжкая!
С давних пор известно: беды ходят вереницами.
Настя, пораньше истопив печь, носила Федору обед и вернулась домой в слезах. Полицейский, увидя ее, выпучил бельмы и начал обругивать ее так, как никто еще не ругал; а Поцелуев, с марлевым клубком на голове, даже плетью на нее замахнулся. Настя не сразу, но все же поняла, с чего это они так взбеленились на нее. Поцелуев пригрозил: «Пускай только она, ваша приблудная, попробует теперь в хутор явиться! Я ей покажу, как вперед ногами ходят!..»
Настя рассказала об этом Матвею Семеновичу. Старику и без того мо́чи не было, хотя он и встал чуть зорька, помог снохе по кухне. А как услыхал об этом, слег опять — и не столько от недомогания, как от душевной боли.
Но полежать ему не удалось: в хату вбежал Мишка, суетливый, запыхавшийся, и, затеребив его за подол рубахи, зачастил:
— Дедока, дедока, я коня привел… Дяди Феди строевого. Смотрю — стоит наш строевой у «жирного» столба, у правления. Ничуть не привязан, а стоит. Пойдем, а то я не расседлаю никак. Подпруги отстегнул, а седло не стащу.
Читать дальше




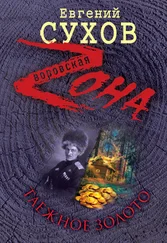





![Николай Сухов - Донская повесть. Наташина жалость [Повести]](/books/212684/nikolaj-suhov-donskaya-povest-natashina-zhalost-p-thumb.webp)
