Абанкин окончил свою речь, высокомерно, вприщур взглянул на Федора и, принимая как должное шумное одобрение передних рядов, не отвечая на насмешки задних, горделиво отодвинулся от стола.
И тогда атаман по личному усмотрению поставил вопрос на голосование.
Разгневанный Федюнин вскочил, опрокинув табуретку, и начал доказывать, что это неправильно, что голосовать пока нельзя, рано, так как многие еще не выступали, даже он, председатель ревкома, и то еще не высказался.
Атаман, поморщившись, стал к нему вполуоборот и спокойно принялся за свое. Он обращался только к бородачам, тем самым надежным, николаевским, что занимали скамьи поближе к столу.
— Господа старики!.. Господа старики, как, значится, мы будем? — запел он, ехидствуя. — Принимаем советскую власть али как? Поднимай руку — кому, стало быть, приспичило…
В комнате поднялся страшный шум, гвалт, и голос атамана затерялся. Сидевшие впереди, одетые большей частью в развернутые, густо пахнувшие квасами дубленые тулупы, зашевелились, скрипя скамьями; те, что стояли в дальних углах — в полушубках, мундирах и шинелях — придвинулись к передним вплотную. Загомонили все разом — кто приветствовал, кто негодовал, — и вряд ли каждый слышал самого себя. Над головами людей, над треухами, теплыми платками и папахами, под самым потолком, где колыхалось облако табачного дыма, замаячили поднятые руки. И чем ни дальше от стола, тем — гуще.
Атаман глянул и побагровел. Даже маленькие, плотно прижатые уши его сделались по цвету вровень с бордовым верхом папахи, стоявшей, блестя позументом, перед ним на столе. Изо всех сил он принялся названивать колокольчиком. Особенно в исступление привело его то, что даже иногородние и бабы, которые раньше на сходках не имели права бывать, а если и допускались, то лишь немыми свидетелями, — и те выставили руки.
— Тише, тише, сколготились, черти б вас!.. Вожжина под хвост попала! — атаман, надрываясь, силился перекричать всех, и ковыльная в завитках борода его тряслась. — Вы что, хохлы, лезете, как оса в глаза! К едреной матери от нашей божьей матери: купи себе да молись! А вы, бабье, что распинаетесь? То-то, прости господи, обидел-таки он вас… Так как же, господа старики, принимаем али как советскую власть?
— Все, все поднимай! Выше! Теперь равноправие. До единого! — Федюнин, подпрыгивая на здоровой ноге, показывая атаману кукиш, болтал сучковатым кулаком перед его круглым в рытвинах носом.
Гвалт взметнулся опять. И опять к сосновому тесу потолка потянулись руки. Из пестрого сплошного гула, прорезаемого чьими-то октавистыми басами, вырывались резкие женские вскрики: Баба-казак публично отчитывала атамана за его насмешку над «бабьем», а заодно и всех «снохачей», и, видно, довольно непристойными словами, — Моисеев, стоявший с нею рядом, все время ржал, смущенно бубня:
— Волки тя ешь, ну и ну… язычок! Ниже пяток пришить надо! Ну, будя, будя, слухать стыдно!
Всегда выходило как-то так, что на сходках Моисеев попадал рядом с Бабой-казак и только с нею и вступал в пререкания. Это, пожалуй, и не удивительно, ежели учесть, что никогда он не лез вперед, в почетный ряд, а слушал издали, что скажут другие, да поддакивал.
— Повадились рты нам затыкать, горлопаны! Не-ет, отошло то время! Теперь не заткнете! Это вам не царский прижим! — все пуще вскрикивала Баба-казак, превращая непонятное слово «режим» в понятное «прижим», и огромные навыкате глаза ее зло сверкали — Вон Надя Морозова говорит…
— Она, волки тя ешь, не Морозова — Абанкина, — поправил ее Моисеев и воровато, с опаской посмотрел, изогнув бычью шею, в сторону Федора Парамонова.
— Ее не поймешь без водки, чья она, — прогудел еще кто-то.
— Брешешь, поймешь! И не Абанкина совсем! Чихала она на этих! Была бы Абанкина, что и говорить… А теперь вот дулю им! На-ка, выкуси!
Перебранка эта, приглушенная общим гомоном, до стола доносилась невнятно и потому, должно быть, атамана не волновала. Он яростно, но уже и растерянно, смотрел сквозь евший глаза дым на бесновавшуюся толпу, и колокольчик в его руке дребезжал все пронзительней.
— Тише, тише, осатанели, проклятые! О, о, возьми их!.. Да тише, говорю! — атаман хрипел. — Господа старики! Господа старики, так как, стало быть, мы будем? Принимаем али как большевицкую?..
— Черт ей рад, этой…
— Пускай милушки… себе ее возьмут!
— Нам, знычт то ни токма, она пока без надобности!
— Рано пташечка запела…
— Звестное дело!
Передние скамьи лютовали, и гомон в комнате не только не унимался, но все возрастал, так как из задних рядов в ответ язвительно неслось:
Читать дальше




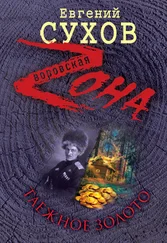





![Николай Сухов - Донская повесть. Наташина жалость [Повести]](/books/212684/nikolaj-suhov-donskaya-povest-natashina-zhalost-p-thumb.webp)
