Атаман бросил новый платочек. Проскакал один, другой, третий всадник, а платочек все лежал. Дошел черед и до Федора. Он насунул поглубже шапку, выравнял повод и двинул коня каблуком. Жеребец вытянулся, взял с места в карьер. Федор припал к луке и почувствовал, как хмель задора иглами прошел у него по жилам. Перед глазами мелькнула пестрая шеренга людей, словно бы с одним вытянутым лицом, ражий седобородый атаман при медалях во всю грудь и насеке, зеленые ставни окон правления… Но взгляд Федора был прикован к распростертому на снегу платочку. Он стремительно летел к нему навстречу, и ветер полоскал его синеватые уголки. На мгновение Федор как будто упал с лошади. Смушковая шапка его далеко отскочила, густые в черном отливе волосы рванул ветер. Но вот он, как пружина, изогнулся, выпрямился и снова очутился в седле. Платочек трепыхался в его пальцах.
Атаман усложнил игру. Вместо платочка он бросил на дорогу засургученную бутылку с водкой. Дед Парсан с великим вожделением глянул на нее и завздыхал:
— Ах, мать честная! Устарел я… Ни в жисть бы не утерпеть!
— Куда уж тебе! — Латаный, как тень, не отставал от него. — Ты бабу на печке и то не поймаешь.
— Изыди, поганец! — дед Парсан затрясся в ярости и замахнулся концом повода. — Что прилип, как репей к хвосту. Потяну вот через лоб!
Латаный захохотал, мерцая на солнце бордовой щекой, и попятился в толпу.
Несколько всадников тут же выехали из строя. Остались только шесть человек. Первый раз все шестеро проскакали впустую. Федор только сдвинул бутылку: едва поднятая с места, она тут же выскользнула из руки. Зато во второй раз под крики и свист одобрения он уже не выронил ее.
Гордый своим успехом, Федор вручил жеребца хозяину и подошел к козырькам.
— Гульнем вечерком? — сказал он, мигнув Пашке, и бросил бутылку на козлы.
— Молодец, Федор! — похвалил тот и сунул бутылку в карман. — Гульнем, приходи, кума, косоротиться! А пока садись, а то девки заскучали.
— Эх, никудышная масленица! Ну что это за скачки! — II тоскующими глазами Федор поводил по сторонам, — Тюха да матюха, ни одного доброго казака. Дед Парсан за главнокомандующего. То ли было прежь, до войны!..
— Ну ладно, было, да сплыло. Садись! — Пашка дернул вожжи и хлестнул лошадей.
Он немилосердно гнал их, дразнил кнутом собак, гикал на встречных и правил по самым глухим, бездорожным закоулкам. Пашка испытывал большое наслаждение от того, что сани, мечась из стороны в сторону и подпрыгивая на ухабах, в любую минуту могли свалиться набок. Визги перепуганных девушек только раззадоривали его.
А когда он, вспенив лошадей, свернул снова на плац, здесь уже было ни пройти, ни проехать. Атаманова приманка сказалась здорово. У пожарного сарая кишмя кишела толпа, огромная, возбужденная. Была запружена вся улица, от одного забора и до другого напротив. Как катящийся снежный ком, толпа эта росла, плотнела и все дальше продвигалась от сарая в улицу. Разномастные папахи и шапки ныряли, что поплавки в волнах. В барахтающейся куче людей кто лежал, кто стоял, кто сидел, и все махали руками. С обеих сторон в эту кучу с большим азартом кидались люди. Безусые и седобородые, длинные и коротенькие, в тулупах и раздетые. Они наскакивали друг на друга, сшибались, падали в снег, снова вскакивали и снова сшибались. Не было ни ругани, ни криков. Только — сплошной храп, топот и пыхтение. Изредка лишь кто-то взвизгивал надсадно и глухо, как из колодца:
— Забегай, забегай, наши, забегай!..
Пашка привстал на козлах.
— Гля-ка, паря, никак нашу стену лупят, ей-бо!.. — и, бросив вожжи, спрыгнул с козел — Бежим, Федор!
— Куда ж вы нас бросаете? — пропела Надя таким притворно-испуганным голоском, что Федор, соскочивший вслед за другом, невольно приостановился. Надя, играя бровями, расхохоталась, и Федор, в растерянности махнув рукой, нагнал Пашку.
Обегая хомутовскую стену, прорезаясь сквозь толпу к своей стене, парни лезли напролом, сталкивали людей. Им подставляли подножку, цеплялись за рукава, карманы и всячески преграждали путь: за ними прочно держалась слава лучших кулачников с большеуличной стороны и пропускать их в стену было невыгодно. Но парни, работая локтями и изворачиваясь, пробирались все дальше.
Позади большеуличной стены, за частоколом спин, как оглашенный подскакивал и кружился дед Парсан. У него в кровь была разбита щека, оцарапаны губы. Он прикладывал к щеке кусок снега, на холостом, так сказать, ходу вертел кулаком и неистово орал:
Читать дальше




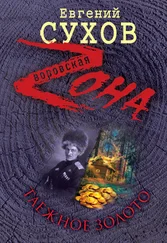





![Николай Сухов - Донская повесть. Наташина жалость [Повести]](/books/212684/nikolaj-suhov-donskaya-povest-natashina-zhalost-p-thumb.webp)
