Изба была тесная, мрачная, завалена тыквами и всякой рухлядью. На перевернутом кверху дном горшке тускло поблескивал, вздрагивая, огонек коптилки. Рядом с коптилкой на столе курилась тыква, — видно, только что из печи. Вокруг тыквы, что опенки вокруг пенька, — детишки, мал мала меньше, оборванные и чумазые. За детьми присматривала женщина, тоже чумазая, сморщенная, с поджатыми по-старушечьи губами. Она резала хлеб, прижав его к груди. Детишки, обдирая тыкву, толкались, ссорились; и женщина, опустив хлеб, строго погрозила пальцем какому-то мальцу.
Надя увидела все это в окно, вспомнила об этой куче осиротевшей в прошлом году детворы, и ей стало не по себе, невыразимо обидно. «Эх, горюшко!» — с тоской подумала она.
Женщину эту, Варвару Пропаснову, Надя знала сызмальства, особенно с той поры, как ее, толстуху-невесту, хохотунью Варьку летним днем венчали с казаком Пропасновым, не очень складным, но ласковым и смирным. Надя бегала тогда еще с косичкой, задиравшейся кверху. Это была первая на ее глазах свадьба. А когда молодых из-под венца привезли домой, к Пропасновым, и здесь, в чисто выметенном и усыпанном песком дворе, у крыльца начали, как полагается, разбрасывать орехи и конфеты в разноцветных бумажках, кто-то из сорванцов-мальчишек зашиб босой Наде каблуком ногу, и Надя целую неделю после этого хромала.
С грустной улыбкой, слегка покачиваясь в седле, она вспомнила об этом, а перед мысленным ее взором все стояла Варвара, жалкая, сморщенная, грозившая детворе пальцем. Как она изменилась! И это с того времени, как получила извещение о муже, о том, что он, приказный Пропаснов, «пал в бою с врагами смертью храбрых». Надя вспомнила, что извещение это и медаль погибшего были получены незадолго до того, как она, Надя, скрылась из хутора.
Год — тому делу. Только. Для иных, счастливчиков, — короткий, а для таких, как Варвара, — невыносимо долгий. Ведь она, считай, уже старуха, хоть летами совсем еще не старая. Кто ж ее теперь, такую замытаренную, сморщенную, приласкает? И захочет ли кто-нибудь заменить мужнины руки в ее хозяйстве, где только нужды прорва!
А детишки? Грязные, оборванные, сопливые, но родные и милые! Был у них отец, и нет теперь, и его заботу о них никто уже на себя не возьмет. А много ли может для них сделать надорванная горем и нуждой мать! Будут они, еще не войдя в годы, скитаться по людям, вместо того чтобы бегать в школу; будут голыми, черными от цыпок ногами месить ранней весной ледяную грязь, гоняя, засучив штанишки, чужую скотину, а осенью, слякотной и беспутной, в сиверку дрожать под зипунишками где-нибудь в далеком поле. И за это получат они кусок ржаного хлеба, да, вдобавок, презрительные клички: «пастух», «босяк», «безотцовщина». Всем ли им из этой вот кучи, обдиравшей тыкву, суждено выдюжить и стать людьми?
Внезапно Надя по какой-то незримой связи вспомнила ту ночь, когда она убегала от Абанкиных. Мертвая улица, темь, мокрядь, невозможно знобко. Ветер валит ее с ног, хлещет крупой в лицо. Она, в дубленой шубе — хоть выжми, в пудовых, набухших валенках, прижимая к груди мальчугана, без памяти прыгает по лужам. Вдали от Абанкиных, в затишье приостановилась, чтоб взглянуть на мальчугана, и с ужасом заметила, что ватное одеяльце на нем развернулось и он, ни разу не пискнувший — будто понимал мать, соучастник ее, — крутил головой, дрожал всем своим крохотным беспомощным тельцем…
У Нади защипало веки, и вдруг она начала задыхаться, будто ей не хватало воздуха. Непослушной, иззябшей рукой, на которой покачивалась казачья плеть, она оттянула у подбородка платок, заиндевевший так, что он даже шуршал, сбросила с ресниц льдинки и, глотая колючий воздух, задышала ртом, коротко и часто.
Конь ее, готовый свернуть в любые ворота, упрямо тянул на обочину дороги и, отставая от Федорова коня, все жался к плетням. Надя кое-как заставила его прибавить шагу, нагнала Федора: ей хотелось заговорить с ним. Ко тут их шумной ватагой окружили ребята-подростки.
Несмотря на поздний час, ребята все еще куролесили в улице, катались с горки на пустыре, против Бережновых. Очистив дорогу, на которой они перед этим резвились — кто на салазках, кто на коньках, а кто и просто кувырком, — ребята, шмыгая носами, с любопытством уставились на служивых.
От ватаги отделился проворный паренек, в заячьем, сбившемся на затылок треухе, в распахнутом полушубке, крытом шинельным сукном, и, загребая снег большими, не по росту валенками, таща за собой салазки, бегом бросился за удалявшимися служивыми.
Читать дальше




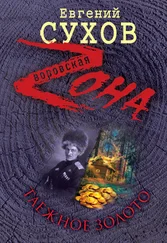





![Николай Сухов - Донская повесть. Наташина жалость [Повести]](/books/212684/nikolaj-suhov-donskaya-povest-natashina-zhalost-p-thumb.webp)
