То, что Алексею снова предстояло распрощаться с семьей, не было для него неожиданностью. Он давно уже, почувствовав себя окрепшим после ранения, предвидел это и готовился. Все коренные хозяйские дела, кроме проса, от которых зависит, быть ли семье в году сытой и согретой, им управлены. На гумне у них в четыре добрых прикладка, возов по десятку, растянулся скирд сена, хоть отчасти и тронутого плесенью, чуть потемневшего, оттого, что в разгар сенокоса помешали дожди, но это не беда: сено черное, зато каша желтая. В закрома амбара, как и на гумно, посмотреть тоже не в тягость было: один закром доверху засыпан пшеничкой, наливной, обдутой, полновесной; в другом — рожь, почти до половины; в третьем ячменьку немного; на закром, если не на полный, так без малого, наберется и проса… Словом, дома Алексей не сидел сложа руки. И тужить ему пока не о чем было: на год хлеба семье хватит вполне, и на другой еще перепадет. Полкруга жита вовремя посеял, зябь вспахал.
Нужно сказать, что с пшеницей в этом году Парамоновым подвезло, и даже здорово. И не случайно, конечно. Сам хлебец не пришел бы к ним и не полез в закрома. Алексей привел его, и главным образом с того поля, которое якобы принадлежало Абанкиным, что весной распахали вместе с дедом Парсаном. И если теперь Парамоновы запаслись зерном, так именно с того самого поля. А на каменистом мысу, на лылах, что им всучили при «растряске» паев и где надрывали скотину, действительно уродилось так, как предсказывал дед Парсан: былка от былки — стоговая вилка.
Тревоги Парамоновы пережили немало, прежде чем пшеница с загона перекочевала к ним в амбар. От атамана ли взялось иль от самих Абанкиных, а может, и от досужих людей, вроде старика Морозова, но всю весну и лето, пока, радуя хозяйский глаз, хлебец рос и наливался, в хуторе упрямо держались слухи, что урожай снимать будут не те, кто сеял, а те, на чьей, мол, земле посеяно, то есть Абанкины. Алексея эти слухи доводили до белого каления, и он хоть и чувствовал себя бессильным тягаться с атаманом, Абанкиным и со всею стоявшей на их стороне законностью, но все же готовился к защите, к самой крайней и решительной. Нередки были минуты, когда его навещали отчаянные мысли: что, если и в самом деле у него отнимут посев, он готов будет темной ночушкой, спрятав в кармане спички, пойти тайком на это урожайное поле… Пусть оно лучше погибнет, и то на душе будет легче.
Но все, людям на диво, окончилось благополучно. Абанкиных каким-то чудом вдруг обуяла голубиная кротость, миролюбие, и они уступили. Все же без скандала дело не обошлось, и Алексей догадывался, что скрытым зачинщиком этого скандала был сам Абанкин. За неделю до уборки хлебов, в праздник Петра и Павла, в хуторе проходила сходка. По чьему почину эта сходка созывалась — неизвестно. Началась она вскоре после обедни, за которой отец Евлампий, тряхнув стариной, произнес обильную назиданиями, а еще больше угрозами божьей кары проповедь, разъясняя прихожанам сущность десятой заповеди: «Не пожелай жены ближнего твоего, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, елико суть ближнего твоего». Почему отец Евлампий посвятил проповедь толкованию именно этой, десятой, заповеди, которая с праздником как будто никак не вязалась, ведомо было только ему.
Почти до вечера в тот день тянулась сходка, почти до вечера судили и рядили, как распутать узелок, завязавшийся между Абанкиными и Парамоновыми. Споров, как обычно, было — в куль не уложишь. Особенно неистовствовали, нападая на Парамоновых, культяпый Фирсов и Андрей Иванович Морозов. Последний без устали твердил о том, что не с руки-де милушкам-казакам перенимать мужичьи повадки, и с каким-то даже восторгом настаивал, чтобы сразу же, одним махом отбить охоту к этому у иных прочих, позавидовавших мужикам. Писарь, предрешая исход споров, узористо выкрутил было в приговоре хуторского общества: «…а посему владельцем оного посева считать Петра Васильевича Абанкина, коему земля принадлежит, а не Парамоновых».
Тогда с величественной медлительностью поднялся Петр Васильевич, до этого сидевший в кругу стариков молча. Поднялся он на ноги, солидный, важный, на голову выше всех, вприщур взглянул в сторону Матвея Семеновича Парамонова, робко топтавшегося позади, рядом с буйным дедом Парсаном. У того от гнева даже куцая бороденка растопырилась, а глаза воспалились — он все цапался попеременно то с культяпым Фирсовым, то с Моисеевым. Взглянул на них вприщур Петр Васильевич и снял фуражку. На лоснящейся от пота, гладко причесанной голове его сверкнула проседь. Скупо и степенно он поклонился сходу, забрал в руки бороду и с жалостливым выражением на лице, точь-в-точь как у апостола, страдальца за мир, нарисованного в церкви, сказал:
Читать дальше




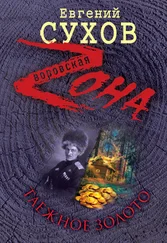





![Николай Сухов - Донская повесть. Наташина жалость [Повести]](/books/212684/nikolaj-suhov-donskaya-povest-natashina-zhalost-p-thumb.webp)
