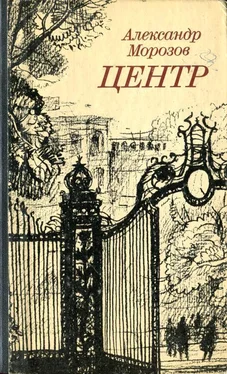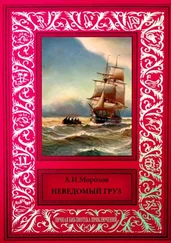Вячеслав сказал:
— Я в вас верю. У вас получится отличный сценарий. Хотите, я занесу вам материалы? А то на последний день откладывать — примета плохая.
— Конечно. Мой номер четыреста двенадцатый. Через полчаса я должен там быть. Предстоит разговор наедине, но вы скажите, что вы от Центрнаучфильма.
— Я знаю, где может быть Вера Леонидовна, — сказал бледный, как Пьеро, Петер. — Я возьму у нее Маринин ключ и передам его с Вячеславом.
— У вас должно получиться со сценарием, — продолжал Вячеслав. — У меня глаз наметанный.
Карданов вышел с Мариной из гостиницы, она взяла его под руку и спросила:
— Ты всегда так пьешь?
— Нет, Мариночка, просто мне хочется, чтобы скорее кончилось дурацкое состояние, когда в кармане есть деньги. Для нормального человека это абсолютно противоестественно…
— Это ты-то нормальный? Мне-то можешь не говорить…
Карданов понял, что ей-то он может не говорить и даже как-то смирился с этим и не стал говорить, и они пошли вокруг площади. Марина отпустила его руку, и он обнял ее за плечи, это выглядело естественно, так как для позднего вечера она оказалась слишком легко одетой, в одно только легкое нарядное платье. Они свернули в переулок, и она сказала, что завтра все кончится, ни на какие озера она не поедет, с нее хватит, у нее от этих оргзабот ноги не свои, и голова не соображает.
— У меня через полчаса деловое свидание. Даже два.
— Прошло уже полтора часа, как твоя жена ушла из бара. Зачем ей твои заметки? Я же все время видела ее на заседаниях секций.
— Сколько тебе лет? — спросил Карданов.
— Двадцать восемь.
— Наверное, она не очень разобралась в том, что слышала. Она окончила журналистику, понимаешь? Человек без профессии. В том смысле, что в науке не работала. У тебя чудесный возраст, Марина. Восемнадцать плюс десять. Я не могу тебе это объяснить.
— Я хочу жить, Витя. Я не могу видеть тебя таким.
— За Петера замуж не выходи. Он альбинос. И к тому же доктор наук. За ним жизни не будет. Выходи за Вячеслава. Мы с ним напишем двадцать сценариев для Центрнаучфильма.
Он снова хотел обнять ее за плечи, но она, хоть и поеживаясь, отстранилась, и они пошли рядом. И ее голос доносился как будто издалека.
— Почему так все происходит, Витя? Ты напился, чтобы не отвечать мне. Мы больше никогда не увидимся.
— Я приглашаю тебя в Москву.
— Я и так живу в Москве.
— Нет. Я точно знаю. В Москве нет ни одной женщины твоего возраста. Я вообще не встречал там ни одного человека восемнадцати лет плюс-минус десять. Это не возраст, Мариночка. Не осуждай Наташку. Все мы живем, как можем. Какой с нее спрос?
Не доходя до площади, она усадила его на какую-то скамейку, неизвестно почему выросшую из асфальтовой почвы на отшибе от скверов и прочих бульваров, она села рядом, прижавшись к нему, и молча слушала его ораторскую ярость, глядя не на него, а прямо перед собой.
— Что с вас спрашивать! — вопрошал в пространство Карданов, — когда даже мы, мужики, ничего не можем? Наука развивается сама по себе, информационный взрыв глушит осмысленные речи, а мы только старимся и пишем статьи. Единственная форма самостоятельного деяния — изменять женам, да и то только для тех, у кого таковые имеются. Высшая форма благородства — постараться сделать так, чтобы жена ничего не узнала.
— Дура я, что дала тебе говорить. Вечное пижонство… Надо было сразу сказать, что ключ от номера у меня с собой. В конце концов, имею же я право…
— А ее не обвиняй, Мариночка. Она женщина — существо слабое, неразумное. А виноват я, я виноват тем, что не стал большим начальником, не сделал единственного, что явилось бы для нее доказательством, так сказать, демонстрацией превосходства моего образа бытия. Я виноват, что пренебрег доказательствами, а почему она должна верить под слово? Нормальные люди всегда требовали, чтобы ты сотворил чудо, ну, например, стал большим начальником, а вот тогда пожалуйста, тогда они могли принять и твою аргументацию. Я не продемонстрировал ей, что за моими ценностями стоит сила. В этом я виноват. И перед ней и перед этими ценностями.
— Витя, тебе завтра много надо работать? Или ты уже свободен?
— Нас было четверо плюс-минус десять, я не помню точно, но, кажется, четверо. И мы владели истиной. Прошло столько лет, и кто нам теперь поверит? Если у тебя не хватило духа заставить других тебя выслушать, то кто поверит, что истина была на твоей стороне?
— Почему «была», Витя?
— Потому что истина есть функция от времени и силы духа. Я не жалуюсь, нет, ты не думай, в моей жизни было самое ценное и редкое, со мной была истина. И ее технический секретарь — ясновидение. Я понимал все, к чему ни прикоснусь, это было как во сне. Я не собирал доказательств, но время работало, а мы не умирали, и оно перестало замечать нас. Оно просто перестало с нами считаться. Кто же знал, что возможность действовать дается не навсегда? Нас об этом никто не предупредил. Все произошло само собой, а теперь ты спрашиваешь о том, на что я должен был дать ответ двадцать лет тому назад. Вот так же ночью мы сидели на скамейке, летом или в конце весны, мы могли тогда не спать трое суток подряд, нас было четверо или что-то около того, и никто из нас тогда еще не прикасался к алкоголю, мимо шли в вечном поиске «огонька» ночные благодушные пьянчуги, и среди темноты белели даже женские юбки. Но никто нас не предупредил, что истина уходит от тех, кто не может вытолкнуть ее на сцену. Ты думаешь, истина — это треугольник абэцэ? Я не спорю — это великое таинство, треугольник абэцэ, а тем более его конгруэнтность треугольнику а прим, бэ прим, цэ прим. Но истина в том, чтобы заставить людей включить теорию подобия треугольников в школьные учебники. Чтобы они поверили, что это действительно важный элемент их собственного мышления.
Читать дальше