Пройдя через солнечную пыль чердака, поднимались по деревянной лесенке-стремянке к круглому слуховому окну. И, слегка подтянувшись, протискивались в окно, потом съезжали животом по крыше, удерживаясь лишь над бездной, почти на самом краю. Бережно балансируя, медленно поднимались. Ржавое кровельное железо гулко проседало под ногой. И – первый осторожный шаг. Железо, освободившись от тяжести, выстреливало вверх. И по нему с тихим шуршанием стекал ручеек ржавой шелухи. Что делают нынешние ребята без крыш? Как жалко мне их! И как мы упивались тогда своим могуществом, двумя шагами попадая с одной улицы на другую, видя совсем рядом – достать рукой! – купола всех соборов города, до которых в реальной земной жизни надо было долго идти и потом тяжело подниматься, а тут все они были вблизи, ощущение полной доступности, возможности дотянуться! Помню поднимающуюся над крышей огромную стену из голого красного кирпича – опять граница недоступного мира! Но в самом низу ее было одно-единственное окно туда, в недостижимое, и с каким волнением мы смотрели на вроде бы обычные дуршлаги и половники, висевшие там и сверкающие на солнце! На ржавом подоконнике в длинном выцветшем, растрескавшемся деревянном ящике поднимал стрелы зеленый лук. Его можно было сорвать – но тронуть ту жизнь мы не решались. Мы, затаив дыхание, смотрели на нее, понимая, как шутит с нами она, вдруг притворяясь доступной. Как хотелось бы жить там, спрятанно и отдельно, и видеть огромные крыши, принадлежащие лишь тебе. Оказаться бы своим на этой солнечной кухне! Но все это – таинственно и недостижимо, и не будет твоим никогда! Сердце сладко щемило. Следующий кадр – я стою на высоком гребне крыши и вижу свою огромную тень на белом доме напротив. Я долго не решаюсь поднять руки, словно боясь, что огромная тень и не подумает вслед за мной, таким маленьким и жалким, тоже вздымать руки – зачем это ей? Наконец я решаюсь и поднимаю их – и тень послушно вскидывает две огромные тени! И ощущение всемогущества пронзает меня! Я уже небрежно-лениво машу поднятыми руками, и огромный черный человек на большом расстоянии, за провалом бездны, рабски повторяет мои движения! Вдруг по тому дому стремительно мчится тень птицы, и, пробив мою тень навылет, исчезает, а я теряю равновесие и чуть не падаю с крыши, словно прострелили меня. Как остра жизнь и как сладко это почувствовать в самом начале ее! Я снова машу поднятыми руками, и огромная тень послушно повторяет мои движения. Мое первое кино!
Поэтому так тяжело было в школе, где ничего нельзя изменить по-своему… нет, можно! Прихотливо менял парты (и даже сосед по парте, и даже соседка были не так важны!) – и наконец ловил! И ликовал! Закатный луч наконец падал так, что я чувствовал блаженство. Сибарит – в бедной сталинской школе, я понял еще тогда: надо себя уважать, ценить свои ощущения, ни в коем случае ими не пренебрегать!.. упустишь сладкие чувства – и жизнь пойдет без удовольствия и смысла. И начинать надо с пространства вокруг себя, со своей комнаты. Смутный стимул, который я, конечно же, не мог сформулировать тогда. Но суть его – и внутри, в комнате, все должно быть так же гармонично и совершенно, как и снаружи. Но там действуют другие силы, а тут все должен сотворить я! Помню, как я изумил родителей, когда в азарте, даже в какой-то горячке начал двигать мебель в комнате, и наконец понял: «Да. Так!» Это надо уловить в детстве – иначе вся жизнь твоя пойдет не по твоей воле, не в твоей обстановке.
А жизнь в центре Петербурга была прекрасной. Помню первый подаренный мне сюжет: у соседнего дома стояли атланты: один был босой, как положено атлантам, а другой почему-то в ботинках. Помню, как я таскал туда одноклассников: «Смешно, правда?» И волновался так, будто я это сочинил. И понимал, что слаще этого волнения нет ничего. И так начал писать.
И каково было такому сибариту, как я, привыкшему к роскоши жизни, оказаться вдруг в новостройке, в Купчино: ни в квартире, ни за окном не было ничего. Как-то было принято тогда переезжать в новостройки и даже считалось – успехом, продвижением по общественной лестнице!.. все же отдельные квартирки вместо коммунальных. Поехали. Но попробуй это освой! Угнетало даже название. Почему улицы так назывались? Улица Белы Куна! Что это такое? Или – кто это такой? Что за дикие звуки? Почему я, привыкший к гармонии, должен прожить жизнь на какой-то Белакуни? Не мог я, посвятивший себя красоте слова, на улице с таким названием жить! Это все равно что пианисту, севшему за ноты, подложить вдруг матерный текст. Прекращать писать? Или ползать ночами по стенам, снимать вывески? Снова повесят! И уехать нельзя: мама обидится, которой дали эту квартиру за ударный труд. Прекратил даже переписку – не могу же я, стилист, мастер слова, такой обратный адрес писать?… Победил, что ли, меня, Бела Кун, расстрелял, как расстреливал некогда белых офицеров? Однако народ наш, привыкший к издевательствам, сам издеваться тоже умел. Как эту улицу только не называли! Улица Белой кони, Белой конницы, Белой куры, Белой кухни… И понемногу отлегло.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


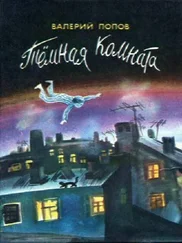
![Валерий Попов - Мой Невский [Прогулка по главному проспекту] [litres]](/books/398128/valerij-popov-moj-nevskij-progulka-po-glavnomu-pr-thumb.webp)
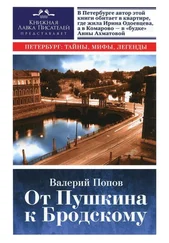
![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)


