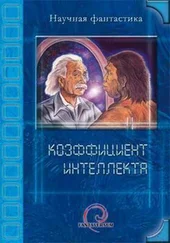Хатч улыбнулся. — Извините меня. Но мне правда нужно знать.
Она внимательно посмотрела на него, убеждаясь, что он говорит правду. — У тебя есть какие-нибудь дела сегодня утром?
— Нет, нету.
— Тогда я покажу тебе. А то я что-то слишком разболталась.
Хатч кивнул. — В котором часу?
— Через час после завтрака, пусть солнце подымется повыше. — Она встала и опять пошла к раковине.
Хатч остановил ее. — Пожалуйста, скажите мне, что было с моей мамой?
Элис осталась стоять спиной к нему. — В каком отношении?
— Судя по рассказам, она была очень странной.
— В каком отношении? — повторила Элис.
— Во всех — ну, например, почему она хотела меня, хотела Роба, хотела умереть такой молодой, а вас не захотела, когда вы предложили никогда с ней не расставаться.
Элис выплеснула из своей чашки остатки кофе, смыла коричневую гущу и повернулась к нему, улыбаясь. — Все это свидетельствует о ее здравом смысле, все твои примеры свидетельствуют об этом, — сказала она, искренне считая, что говорит правду.
Входная дверь приоткрылась, и в щель заглянула Делла; медленно обвела глазами комнату, затем перевела посерьезневший взгляд на Хатча. — Ну что ж, — сказала она, — недолго побыла я тут хозяйкой, но зато всласть. Не требуется ли кому кухарка? Грудинку умею готовить — пальчики оближешь! Не всякий умеет готовить грудинку, это уж мне поверьте. — Она рассмеялась, и они вслед за ней.
7
К полудню Хатч закончил, как ему казалось, свой рисунок. Четкие линии, выведенные его лучшим твердым карандашом, никакой мазни, никаких теней. Рисунок воспроизводил вид, открывавшийся с голого и плоского уступа, где он сидел уже часа два: скалистый склон горы, спина и голова Элис, сидевшей на другом уступе, пониже, в тени большого искривленного кедра, долина далеко внизу, перерезанная стремительной бурной речкой, и рыжеватая круча (поросшая лавровыми кустами и какими-то неизвестными желтыми цветами), которая подпирала ярко-зеленую гору напротив. Он закусил карандаш и стал сравнивать вид со своим рисунком. Нет, получилось совсем не то, что он видел, не то, что открывалось ему сейчас. Так бывало со всем, за что бы он ни взялся. Просто сегодня утром ему удалось изобразить этот вид только так (придя сюда со старинной подругой матери, он оказался вдруг в прозрачной тишине: ни звука, кроме птичьего щебета да истошного гуденья насекомых в траве — Элис, выбрав себе место и погрузившись в работу, не проронила ни слова). Да нет, и не удалось вовсе.
Именно так преломилось в этой созданной им без посторонней помощи картине то, что явила ему земля этим утром — кусочек ее оболочки, ослепительно прекрасной, покрытой глазурью покоя, призывающей людей сначала полюбоваться ее красотой, а потом уж доискиваться смысла. (Это-то он понимал, понимал уже не первый день, только ни за что не сумел бы выразить словами.)
Труднее всего, как и прежде, было с деревьями — не стволы, рисовать которые было не сложнее, чем человеческие ноги, и назначение которых было ясно — а листва, висячие сады, ярус за ярусом. Листва получилась у него плохо. Скалы, склон противоположной горы, очертания спины и головы Элис, ее широкополая шляпа — все это не противоречило действительности, — его ответный подарок вселенной. Мирное подобие мирного пейзажа, попавшего в поле зрения. Обещание или надежда на то, что еще долгие годы можно рассчитывать на такого рода обмен при общности цели — покое и бережном отношении друг к другу.
Элис шевельнулась, потянулась, но в его сторону не посмотрела. — Ну, теперь хочешь показать мне?
Хатч снова посмотрел на свой рисунок. Листва была из рук вон плоха. — Нет еще, — сказал он.
Она снова взялась за работу.
А если вообще не игнорировать — вообразить, что сейчас осень (такие хорошие дни бывают иногда и в середине ноября), нарисовать стволы и несколько голых веток. Он взялся было за свою новую резинку. Будь он сейчас на веранде в Фонтейне, тетя Рина, наверное, сказала бы: «Постой!» Так она сказала, когда он, взяв новые карандаши и этюдник на следующий день после дня своего рождения, уселся рисовать садовые деревья, старый жернов, посаженные ею придорожные кусты. Сначала он набросал только контуры, затем начал класть тени. Она сидела у него за спиной, чуть поодаль, и минут двадцать молча наблюдала. Он заставил себя не замечать ее, и все шло гладко до той минуты, как его большой палец двинулся по бумаге, кладя первую тень. Тогда она решительно качнулась вперед и сказала: «Хочешь знать, о чем я думаю? Весь мир следит за тем, что ты сейчас собираешься испортить». Он поднял на нее глаза. «Быть того не может. Не так уж я хорош», — а Рина сказала: «Дело не в тебе, а в тайнах мироздания. Весь род человеческий, затаив дыхание, ждет, чтобы ему открылись эти тайны. Тебе только что удалось прекрасно воспроизвести на бумаге их подобие, и вот теперь ты хочешь все погубить». Хатч сказал: «Это всего лишь наш двор», но перестал рисовать и сидел, не касаясь бумаги, не спрашивая ее ни о чем, и в конце концов она встала и ушла в дом.
Читать дальше