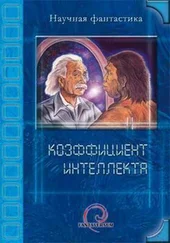Прошло уже три дня, и мы все еще здесь — я в большом доме, а он в пристройке для прислуги где-то на задах. Я жду артельщика, который будет набирать людей для сооружения дороги, и Грейнджер со мной. Вот уж истинный Мейфилд! Он уже устроился на работу и решил остаться тут. По целому ряду причин — самых обыденных.
Да и все это в достаточной мере обыденно. Что я и пытался высказать в своем письме — все это очень обыденно. О чем я в самом деле горюю? Мне всего двадцать один год. Я только-только начал жизнь. Меня еще можно наставить на путь истинный. Все еще можно исправить.
Так возьми и исправь.
Целую, Роб.
6
Письмо Роб отправил уже под вечер; затем прошелся немного, чтобы прочистить голову, вымыл руки, легко поужинал в столовой, где не было никого, за исключением его самого, владельца пансиона мистера Хатчинса и Грейнджера, в чьи обязанности входило помогать Делле подавать на стол то немногое, что имелось в наличии (Делла была та самая девушка, которую Роб видел тогда во дворе, — она же кухарка и горничная). Затем он посидел на крылечке с мистером Хатчинсом и не в первый раз выслушал его проекты развития и оживления дела в расчете на свежий наплыв посетителей, после того как будет построена дорога.
— Виргиния больными кишит, а до этого замечательного воздуха и до этой вонючей воды не доберешься иначе, как горной дорогой, на которой столько народу головы сложило, что и вспоминать не хочется. Я уж не говорю о Мэриленде и Вашингтоне и о вашем убогом штате. Постройте дорогу, а за мной дело не станет.
Роб спросил: — А доктор у вас тут будет к тому времени? Без докторов не обойтись. — Он намекал на то, что жена мистера Хатчинса уже шесть недель находится в Линчбурге, очевидно, для того, чтобы держать под врачебным присмотром больную дочь.
Мистер Хатчинс сказал: — Уж этих-то понаедет; от них палками не отобьешься, как только тут деньгами запахнет. Они на деньги, как мухи на мед слетаются. Я это очень даже хорошо заметил. Не знаю, конечно, может, в вашей семье и были доктора-бессребреники.
Роб сказал: — Нет, что вы, мы сами все насквозь больные. Иначе зачем бы мне было сюда ехать?
Мистер Хатчинс сказал: — Затем, что голова хорошо варит. Только поторопился ты немного — тебе б на несколько месяцев попозже приехать.
Роб сказал: — Значит, перестарался, — извинился и пошел к себе в комнату. Там он зажег лампу и сел писать своей тетке Хэт, — извиниться и объяснить исчезновение Грейнджера, пообещать, что приедет снова этим летом, причем в образцовом порядке, загладит свою вину перед ней и станет впредь хорошим племянником — однако после двух попыток он решил, что только зря старается. Она или простит его после нескольких недель молчания, или же прибавит его имя к длинному списку тех, кто покинул ее и никогда уже не заслужит прощения. Остановившись на этом, он встал, чтобы раздеться, и успел все с себя снять, когда за дверью кто-то произнес шепотом: «Роб!» — это был Грейнджер. Роб приоткрыл дверь, убедился, что он один, и сказал: — Входи! Чувствуй себя, как дома. Я собираюсь в объятья Морфея (Грейнджер приходил к нему каждый вечер, якобы для того, чтобы обсудить прошедший день и их шансы обосноваться здесь, на самом же деле — Роб прекрасно понимал это — чтобы проверить состояние его здоровья и настроение), а сам подошел к кровати, улегся и подоткнул со всех сторон одеяло, как будто за окном стояла зима, а не мягкий и теплый апрель.
Грейнджер вошел, притворил за собой тяжелую дверь и уселся на единственный, стоявший под лампой стул. — Я хочу тебя что-то важное спросить, — сказал он. — Я постарше тебя буду и уже достаточно времени потратил на врунов, так что, будь добр, не обманывай меня — ты правда думаешь остаться здесь?
— Смотря по обстоятельствам, — ответил Роб.
— Каким таким обстоятельствам?
— Получу ли я завтра приличную работу, справлюсь ли с ней (я ведь никогда еще ничего не строил), не потребуется ли мое присутствие дома. Черт возьми, Грейнджер, да ведь я же могу нынче ночью умереть во сне.
Грейнджер внимательным, изучающим взглядом смотрел на него в ровном теплом свете — широкая грудь Роба, темная, почти сливающаяся с ореховой спинкой кровати, выпирали, как у бурлака, словно он всю свою жизнь только тем и занимался, что таскал тяжести, а не плескался в теплой ванне; лицо, спокойное и открытое, с широкими скулами, высоким лбом, крупным подбородком и глаза — то глубокие и спокойные (глаза утешителя), то вдруг вспыхивающие бешеным огнем. Грейнджер улыбнулся: — Не бойся, ты не умрешь, ни этой ночью, ни следующей, разве какая-нибудь девка прирежет.
Читать дальше