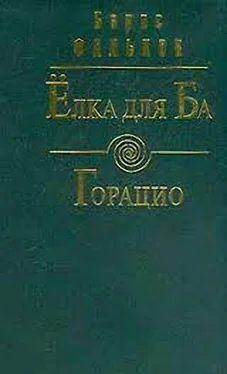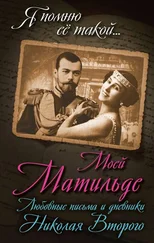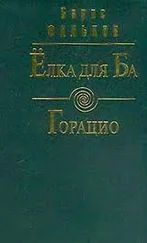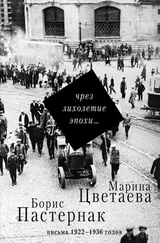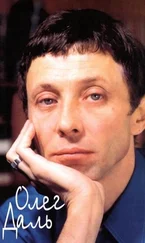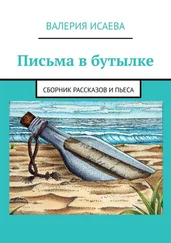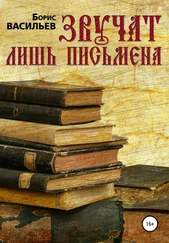Борис Фальков - Горацио (Письма О. Д. Исаева)
Здесь есть возможность читать онлайн «Борис Фальков - Горацио (Письма О. Д. Исаева)» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Горацио (Письма О. Д. Исаева)
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Горацио (Письма О. Д. Исаева): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Горацио (Письма О. Д. Исаева)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Горацио (Письма О. Д. Исаева) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Горацио (Письма О. Д. Исаева)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
А, может, это были вовсе и не Здоймы, кто их разберёт… Я среди местных берберов, как марсианин в Китае, все они на одно лицо. Я — специалист по африканским, знаете ли. А местных я для своих нужд распознаю только по увечьям. Но если совсем честно сказать, то я не уверен, что правильно распознаю: разве не похожи все увечья друг на друга в любой части света, в любом… столетии?
Добавлю ещё, что после той истории с аистёнком аисты в Здоймовских гнёздах уже не сидят. Улетели в Африку? Что-то рановато.
О. 26.8.Здоймы.Я стал испытывать приступы тоски по Испании, дорогой Джон. По этой выжженной пустыне. По этой отощавшей смуглой девочке-монахине. По этому скудному Ерусалиму — Сант-Яго де Компостела, всё чаще вижу я его во сне, когда получается уснуть. И это при такой роскоши, какую мы все имеем здесь. Даже местные аисты кажутся мне теми, помнишь? Я думаю: может быть, всё дело именно в пустыне? В скудности Ерусалима? Ты видишь, Джон, решиться поехать в Ерусалим — это можно. Но как решиться вернуться из Ерусалима, коли душа решает остаться там?
Смею надеяться, что я понял «Тристана» почти вполне. Почему ты так скептичен в отношении моих возможностей? Это не по-дружески. Главное, что я понял главное: «Тристан» — комментарий к жизни, в том числе и моей. Ну, а моя жизнь, конечно, комментарий к «Тристану». Так оно и кружится, вальсирует в обнимку. Что, мало ЭТО понять?
Если тебе мало, прибавляю: Горацио желает написать изысканный роман с интеллектуальной подкладкой, и в этом вся его жизнь. А Тристан, которому нужно просто жить, стоит за китч, за мюзикл под аккомпанемент роты. Горацио жаждет уничтожить царство Артура, которое и есть совершеннейший китч, а Тристан желает его достичь и там жить. Итак, жизнь и есть, по Тристану, китч. А что же тогда, по его воззрению, смерть? Тем более прост ответ: абсолютный китч. А по воззрениям Горацио — смерть есть именно БЕЗОТВЕТНЫЙ ВОПРОС.
Тристан — это простодушный гитарист. Горацио — траченый мыслишками интеллигент. Они соперники, ну, скажем, как аист и коршун соответственно. Но не более того, ведь оба эти существа — птицы. Аист, Тристан, простодушен, потому что душа его не разорвана рефлексиями, противоречиями. В неделимости души суть её простоты, как вообще в неделимости — суть простоты всякой. Аист хищник простой, если можно так выразиться… Совсем иное — хищник сложный. Это Горацио, коршун.
Как бы ни были странны отношения этих героев, а они — точная копия моих отношений с местными берберами. Я, Горацио, несовершенен в сравнении с ними, а почему? Потому что непрост. Моё несовершенство — это расслоение души, и следовательно — её вынужденно сложная жизнь. Вынужденная, значит, несвободная. А неслоёная душа бербера совершенно свободна, и даже может самостоятельно летать, так она цельна и автономна. Моя же при самостоятельном полёте просто рассыпется на части. Итак, я построен как интеллектуальный роман, а бербер как китч. Потому он просто живёт, а я — лишь размышляю о жизни, а то и о хронике, подражающей жизни, комментирую её, задаю ей безответные вопросы… То есть, будет логично продолжить, я есть смерть.
У бербера и со смертью всё просто: если на его крыше не селится аист, бербер сам лепит аиста из глины и сажает на крышу. И всё, никаких вопросов, только ответ. Спрашивая, де ты робыш, бербер не нуждается в ответе. Это вообще не вопрос, а так, простой регулярный выдох души, простой восклицательный знак! Сами увечья бербера не делают его сложней — не забывай моё определение простоты! — даже увечья бербера ничто иное, как всё те же увечные деревья в затоке, или сама его земля, которую так же корячит плывун.
Я же, неизлечимо сложный и противоречивый, имею лишь вопросы, и никаких ответов. Я и наружно похож на безответный вопросительный знак с многоточием. Как я ни пытаюсь, а создать китч мне не по силам. Ведь китч — это уже ответ, и создаётся он не вопрошающим мастером, а публикой. Подумай над этим и ты, клянусь, это глубокая мысль! Китчем может стать и книжка, и песенка, и стул. Пожелай этого последнего публика. И вот я, в итоге безуспешных попыток своих опроститься, сижу в одиночестве, без никакой публики, на стуле своём и за своим столом, а рука вовсе не лепит глиняного аиста для жизненных нужд, а выводит на полях манускрипта нечто никакого отношения к жизни не имеющее:
это душа Ивана Аврамовича,
а это — Пылыпа Мосеича.
После этого моя рука пытается, если уж не мою душу опростить, так эти чужие души усложнить: то есть, изувечить, раздробить на части… И что же? Не выходит. Попробуй сам, если не веришь. Они просты, как… гипофиз. Его можно разжевать целиком, как мелкую ягоду, но разделить на непохожие, иные по отношению друг к другу части невозможно!.. Нет более простых вещей в нашем свете. Только вечность проще: её нельзя и нарисовать. Но в каком свете та вечность? Вот что я думаю о «Тристане», и всё — верно думаю, если исключить из моих определений слово «нельзя». Так как «Тристан» утверждает: можно. Тогда всё, что я неверно думаю, включая слово «нельзя», я думаю о мясопроизводстве. Кажется, мне стало трудно выражаться внятно. Но ты простишь мне мой романтизм: в конармии Будённого и конь может стать всадником. Или евреем. Или романтическим писателем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Горацио (Письма О. Д. Исаева)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Горацио (Письма О. Д. Исаева)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Горацио (Письма О. Д. Исаева)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.