Хикеракли воззрился на Твирина с этаким лукавым сомнением:
— Эвон как заговорил, — деланно покачал он головой, будто выкаблучивался перед зрителями, — держи меня, Столица Великая!
А вот теперь и уходить можно. Сказал, спросил?
Чтоб ответ получить, не эту жизнь жить надо было.
— Ничего со мной, Тима, не творится. Был без ума, а теперь с умом. Взрывчатка, говоришь? Шут с тобой, какая взрывчатка. Взрывчатка — это, так сказать, последствие… Из причин всяческих.
— Это ты-то был без ума? Брось, Хикеракли. Твоим умом мы все и держались. А что могли бы держаться послушней да прилежней — то отдельный разговор.
— Это что, лесть такая? — недоверчиво покосился Хикеракли.
— Нет. Это то, что я — не будь я дрянью и не дрожи я так за то, каким меня видят — должен был тебе ещё ого-го когда выложить. Никто из проклятущего Революционного Комитета до тебя и близко не дорос, никто.
Хикеракли оторопел.
— У тебя горячка.
— Мне сегодня о том уже твердили, — невесело усмехнулся Твирин. — А я полагаю, что сегодня-то как раз и излечился. На время, быть может, и чудовищной совершенно ценой — хоть ложись и умирай после такого исцеления, но несомненно одно: у меня наконец-то хватает честности говорить тебе то, что я думаю.
— Хорошо. Ты думаешь, что ты — дрянь паскудная, только ноги о тебя вытирать, а я — воплощение благодати, и сияние от меня исходит, — вернул Хикеракли усмешку. — Я счастлив.
Твирин потянулся за папиросой, но вспомнил, что выкурил всё, пока кружил по улицам — со ступеней Городского совета он, не оглядываясь, бросился прочь, прочь, прочь, лишь бы не видеть, не слышать и не думать. Думать ногами, бесцельно таращиться по сторонам, заблудиться в этом маленьком вообще-то городе, зажатом между казармами и морем.
У витражей Академии свернул в «Пёсий двор» — покорившись нелепому инстинкту, в основе которого лежала ещё более нелепая память, что в «Пёсьем дворе» всегда можно найти Хикеракли.
Да когда оно было, это «всегда».
А впрочем, в некотором роде — можно найти.
— Хорошо, Хикеракли, я понял, я ухожу. Я плевал тебе в душу столько, что было бы странно, если б однажды она не переполнилась и не отправила меня лесом к лешему же. Только очень тебя прошу, — поднялся Твирин, — не отрезай ты от себя все живые части. Не надо, пожалуйста.
А гроб часов тикал и тикал, тикал и тикал, как он тут спит-то.
— Да куда ты пойдёшь, сам же сказал — некуда. И прекрати передо мной расстилаться. Это же то же, как если дать от ворот поворот — всё одно не разговор. — Взглянул пристально-пристально прямо в лицо, так что привычно вероломные колени сами сдались и уронили Твирина в кресло; Хикеракли выдал смешок. — Не, ну поди ж ты! Я, Тимка, специально не думал, но я ж знаю, что мне вроде как хотелось… Ну вот чтоб эдак — пришли, отдали, как говорится, должное. Тем более ежели ты… А мне, вишь, не в радость.
И Тимофей Ивин, Тимка, сразу воспрянул — «тем более ежели я?», но у Твирина хватило соображения не лезть сейчас ещё и с этим.
— У тебя покурить найдётся?
— Представления не имею. Пошуруди сам в тумбочке.
Покурить нашлось, и в папиросу Твирин вцепился одеревеневшими от страха пальцами: разные есть страхи, стыдные и в известном смысле благородные, выматывающие и подстёгивающие, растлевающие и полезные как сигнал, но об этом страхе не получалось сказать ничего.
Просто колотилось в голове: а вдруг правда бывает, что был человек да кончился? Без всяких расстрелов и приговоров, вроде сидит перед тобой, ухмыляется, а всё, что там внутри было, издохло и скоро смердеть начнёт.
Вдруг не отменишь уже ничего.
— Ты слишком рад повиниться, — произнёс средь повисшей тишины Хикеракли. — Я тебя не корю, кто б и не рад. Я бы и сам… Да только передо мною виниться смысла нет, я необидчивый.
Необидчивый он.
Необидчивый и до того к каждой дряни паскудной расположенный, что без разбору кидался — голову на место ставить, советы раздавать да выручать уж чем сможет. Ну-ка отвечай, Тимофей Ивин, Тимка: хотелось-то, чтоб не к каждой и не без разбору? Чтоб тебе особые привилегии были? Ох, держи карман шире.
Да какая уже разница, когда вот он, былому-то финал.
— Хляцкий твой во сне умер. Боялся умирать, не хотел. Но и не узнал. Что-то ему хорошее снилось.
Хикеракли словно не услышал, деловито накрыл обратно чугунок, сгрёб вилки, воображаемые крошки стряхнул.
— Даже не завозился, не успел почуять, счастливец.
Треньк тарелки о тарелку вышел звучный.
Читать дальше

![П Джунковский - В глубь веков [Таинственные приключения европейцев сто тысяч лет тому назад. В дали времен. Том III]](/books/31262/p-dzhunkovskij-v-glub-vekov-tainstvennye-priklyuche-thumb.webp)







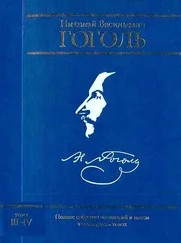
![Михаил Барятинский - Танки III Рейха. Том III [Самая полная энциклопедия]](/books/427749/mihail-baryatinskij-tanki-iii-rejha-tom-iii-samaya-thumb.webp)
