Дмитрий Быков - ЖД (авторская редакция)
Здесь есть возможность читать онлайн «Дмитрий Быков - ЖД (авторская редакция)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2016, Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:ЖД (авторская редакция)
- Автор:
- Жанр:
- Год:2016
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ЖД (авторская редакция): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «ЖД (авторская редакция)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Текст книги предоставлен жж-сообществу ru-bykov автором.
ЖД (авторская редакция) — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «ЖД (авторская редакция)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
От коренного населения России к началу двадцать первого века осталось очень немногое. Вот почему почти никто в стране не умел и не хотел работать, а главные споры шли между теми, кто желал воевать, и теми, кто хотел торговать. Но немногие уцелевшие славяне по-прежнему исповедовали культуру круга, и потому…
— Ты понимаешь теперь, кто остался от нашего племени?— спросил Гуров.
— В смысле?
— Те, кто ездят по кругу. Те, кто удерживают мир от окончательной гибели. Те, кто не имеют права покидать Кольцевую.
— Васьки,— прошептал Волохов.— Этого не может быть.
— Может,— сказал Гуров.— Такое может быть, знаешь…
Очень скоро то, чего не может быть, началось.
глава четвёртая
1
Теперь Волохов во главе небольшого отряда, называемого Бог весть почему его летучей гвардией, шлепал по мокрому смешанному лесу к северу от Дегунина, снимал с лица липкую паутину, отводил ветки, чтобы не хлестали по щекам, и чувствовал себя неприлично счастливым, потому что ночью ему предстояла встреча с Женькой — комиссаром ЖД, стоявших в соседней деревне Грачево.
Летучая гвардия — да, это они вмастили. Вполне в духе позднего варяжства с его напыщенной, самоочевидной тупостью: в последнее время всякий стыд потеряли. Стоило помереть от пьянства или нищеты полузабытому актеришке, сыгравшему две эпизодические роли в комедиях на излете застоя,— газеты именовали его великим; ничтожества вроде Паукова прозывались цветом русского воинства, опорой национального духа; в последний предвоенный год ввели страшное количество праздников. И то сказать, работать никто уже не мог, да и незачем было — работали, по сути, себе в убыток: произведенное не продавалось, скудный экспорт не окупал и малой доли затрат, нефти было больше, чем могла потребить страна и в лучшие свои годы,— что ж не праздновать? Черные дни календаря все наглядней вытеснялись красными, большей частью воинскими: все они в сознании Волохова сливались в одного Всеархистратига Стратилата, чернокрылого дракона, пожирающего собственный хвост и оттого невыносимо страдающего,— змееборца и мученика в одном лице. Эта змея, сама себя борющая, но собою же и питающаяся,— была лучшим символом русской истории, и утешаться оставалось тем, что нельзя же заглатывать себя вечно. Праздновали пышно, жирно, со сбитнем и гулянками, но в каждом празднестве все отчетливей проступал погром. Нововведенный день народного единства с каждым годом отмечался агрессивнее и вызвал наконец прямое побоище. То есть побоища бывали и прежде — борцы с нелегальной миграцией ежегодно хаживали по столицам торжественным маршем, в открытую неся свастики, а навстречу им разрозненными, скудеющими толпами выходили посрамленные демократы: в первый раз с цветами, во второй с гондонами. Наполненные водой гондоны олицетворяли любовь. «Занимайтесь любовью, а не войнами!». «Все, кто не боится! Ждем вас на Воздвиженке, у дома несуществующей дружбы народов!». Раздавали пиво — вероятно, для бесстрашия. Против свастики еще можно выходить с красной звездой, но делать это с презервативом — ход сомнительный; борцы с миграцией хорошо тогда погромили «всех, кто не боится». Волохову, пожалуй, одинаково отвратительны были свастика и презервативное шествие, но дальше — больше, действие равно противодействию, и на следующий год против свастик вышло уже вдвое больше народу. Еврею, конечно, еще можно было крикнуть — «Эй ты, жид! Поди сюда! Бабки давай!» — но желающих давать бабки не осталось, отзывались все реже, а если и подходили, то почему-то вдруг били первыми. Поначалу противники миграции, гордые потомки ариев, изумлялись, отчего жиды наглеют,— но к жидам вскоре подключились хачи, и белой расе стало вовсе не до смеху. Вот тогда-то и началось — сначала драки в центре, потом отпадения окраин, подключился Кавказ, и через месяц страна, сама того не чая, очутилась в состоянии войны.
Война эта принципиально отличалась от того, что устроили в оны смутны времена гражданин Минин и товарищ Пожарский. Впрочем, кому ж, как не альтернативщику, знать: о том, что они устроили, достоверно ничего не известно. Да и про Сусанина мы мало что знаем — особенно если учесть, как лепило варяжство своих героев: ничем не брезговало, отовсюду подбирало. Вспоминал же бывший диссидент, впоследствии главный борец с либерализмом Зиновьев: прыгали курсанты с парашютами в сорок четвертом году, один забоялся, облевался, обосрался, а будучи вытолкнут из самолета — умер от разрыва сердца. Когда покойник благополучно приземлился на автоматически раскрывшемся парашюте, его немедленно канонизировали и даже наградили посмертно: был бы труп, подвиг присочиним. Курсанты много тем тешились: русский народ — веселый народ, своя смерть ему забава, чужая — праздник. Минина и Пожарского засахарили до полной неузнаваемости: каждый год, да не по одному разу, демонстрировалась художественная картина о них, статуарная, позднесталинская, с грозной лающей музыкой, древнерусскими буквицами в титрах, с многословно-интеллигентным, коварным польским королем Жигимонтом подозрительно неарийского вида. Положительные сверкали глазами из-под гневно супящихся бровей: «Головы прозакладываем!». В прессу вовсю проникало слово «супостат». В детстве Волохову, увлекавшемуся тогда физикой, супостат представлялся прибором, регулирующим температуру супа, наподобие реостата, коим можно было умерять громкость; теперь мы на него бесперечь супились. Новая волна самоистребления началась сама собой, без верховного сигнала — ибо власть, что-то смекнув, давно уже не ставила задач: видно было, что призови ты хоть к разведению помидоров — завтра же начнется бойня, да картофельные бунты уже и описаны. Как из любой физической материи, включая табурет, умели в России изготовить самогон,— так и любой духовный материал с легкостью превращали в погром, и что ж мудреного, что один из дней единства и согласия дал начало побоищу? Признали его не сразу, говорили о массовых беспорядках, о том, что все под контролем,— но быстро прикинули возможные выгоды войны, списали на нее все за милую душу и объявили тотальную мобилизацию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «ЖД (авторская редакция)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «ЖД (авторская редакция)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «ЖД (авторская редакция)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.







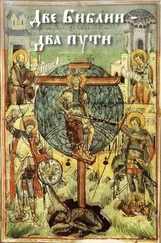


![Андрей Уланов - Космобиолухи (Авторская редакция 2020 года, с иллюстрациями) [litres]](/books/396545/andrej-ulanov-kosmobioluhi-avtorskaya-redakciya-202-thumb.webp)

