— А кто должен был его оказывать?— спросил Волохов.
— Как кто?— удивился Эверштейн.— Те, чья земля… Ви же умный мальчик, Воленька, ви же знаете, что не было никакого ига. Ига, фига… Дешевая подтасовка, в летописях куча противоречий. Или ви действительно думаете, что на Куликовом поле сходились русские с татарами? Что это были за татары, откуда они взялись, интересно? Нет, дорогой мой, дрались там ваш Челом-бей и наш Пэрец-вет…
— Ну да,— кивнул Волохов.— Я давно догадался.
— О чем догадались?— насторожился Эверштейн.
— Что вы этим кончите. Конечно, коренное население — вы. Очень изящно.
— А вы не иронизируйте!— Это было сказано с неожиданной горячностью. В комнате темнело — стремительно, как везде на Юге; света они не зажигали.— Вы проследите хотя бы советскую историю, и все станет ясно! Посмотрите на ваших почвенников, простите уж меня за это слово, оскорбляющее невинную почву,— где у них хоть один талантливый текст? Так можно писать только по указке, о безнадежно чужой земле… все эти березки… «Поезд ушел. Насыпь черна. Где я дорогу впотьмах раздобуду?» — чувствуете, как пишут о своем?!
— Пастернак ненавидел свое происхождение и стыдился его,— угрюмо сказал Волохов.
— Это он сам вам сказал?— язвительно осведомился Эверштейн.— Или он таким образом покупал себе таки лишний годик жизни? У него перед глазами была судьба Иосифа Эмильевича, который очень даже не скрывал, что его кровь отягощена наследием царей и патриархов. Вот и получил. А вы вслушайтесь: «Ах, я видеть не могу, не могу берега вечнозеленые: бродят с косами на том берегу косари умалишенные»,— может так писать чужой человек? Нет, только тот, кто чувствует язык в его подводном течении… И сравните вы это с ужасным паном Твардовским, с частушечным Исаковским, я не говорю уже про бардов из газеты «Позавчера»… Вспомните, кто писал лучшую патриотическую лирику двадцатого века, когда нам после семнадцатого года стало наконец можно любить нашу Родину!
— О да,— кивнул Волохов.— «Там серые леса стоят в своей рванине. Уйдя от точки А, там поезд на равнине»…
— Это крик оскорбленного патриотического чувства!— не дал договорить Эверштейн.— Это вопль изгнанника, проклинающего свою землю и не могущего от нее освободиться! То же самое, что «Отвяжись, я тебя умоляю!» у Веры Евсеевны.
— Какой Веры Евсеевны?— тупо изумился Волохов.
— Ну, не прикидывайтесь младенцем. Вы отлично знаете, что за него писала она. Он был типичный балованный аристократ, продукт многолетнего вырождения, а она его без памяти любила, дура, и дарила ему всю себя, свой талант. Сравните только, как он писал до женитьбы и как после. Ведь и проза вся началась только в двадцать шестом. По-английски — это он сам, не оспариваю, потому и выходило так пусто, безжизненно. Вы серьезно допускаете, что «Дар» и «Лолиту» написала одна и та же рука? Вырожденец, эротоман… А все стихи о России — это, конечно, она. В текстах множество намеков на это, анаграммы так и рассыпаны, история рода Слоним зашифрована в биографии Цинцинната… Прочтите у Плейшмана, у него есть подробно. Я, собственно, не к тому. Вспомните эти жуткие резервации, куда под видом нашего же сохранения загнала нас ваша власть. Вспомните дикую черту оседлости. А когда мы оттуда вырвались, они придумали это,— он кивнул на окно, на сгущающуюся лиловую ночь.— Нет, ничего не скажу, ход достойный… иезуитский… Ступайте в вашу пустыню, на родину предков! Вы же знаете, что рассматривался вариант с Дальним Востоком? Уже застолбили Биробиджан, но потом он резонно подумал: зачем они мне под боком? Ведь рано или поздно все равно вырвутся! И тогда все опять по новой? Не-ет, пусть сдохнут в пустыне… без воды, среди враждебных арабов! Но только не вышло!— Эверштейн радостно захохотал.— Построились, разбили сады, подняли города, ужились с арабами,— посмотрите, скольким из них мы даем работу,— это вам не яблони на Марсе! Потом, конечно, ваши спохватились, сделали Арафата, стали тренировать у себя террористов… Не думайте, есть факты. Семидесятые годы, тренировочный лагерь под Ташкентом, в условиях, приближенных к нашим. Фотосъемка, «Вести» печатали, спросите Женьку! Но поздно. Теперь уже, батенька, не задушишь, не убьешь.
— Это все очень гладко.— Волохов говорил медленно, подбирая слова: он знал, что некоторые темы из числа архаических — нацию, родство,— лучше не поднимать и в разговорах с самыми продвинутыми постмодернистами, для которых давно нет ничего святого.— И тем не менее я тоже немножко историк, Миша. Я все больше, конечно, по Второй мировой, но первый курс кончал и знаю, что Каганат был сравнительно небольшим приволжским государством, отнюдь не состоявшим из этнических хазар. В Каганате приняли иудаизм, причем даже не в талмудическом, а в караимском варианте. Никаких следов Каганата в русской культуре нет, если не считать поединков Муромца с жидовином, и то вопрос, не позднейшая ли это былина, сочиненная в порядке стилизации кем-то из собирателей. Никаких следов хазарской государственности, кроме нескольких крепостей, опять-таки нет. И говорить, что с нее началось русское государство…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу







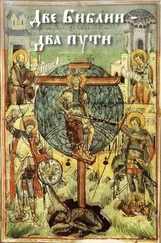


![Андрей Уланов - Космобиолухи (Авторская редакция 2020 года, с иллюстрациями) [litres]](/books/396545/andrej-ulanov-kosmobioluhi-avtorskaya-redakciya-202-thumb.webp)

