Когда я это услышал, мне было одиннадцать лет. Уже тогда, глядя в налившиеся яростью глаза отца, я понял, что узнал то, чего не должен был знать никогда.
Тем же вечером я спросил маму. (Дверь в комнату отца была закрыта уже несколько часов, казалось, он заперся там от стыда, сам не понимая, как мог рассказать мне об этом.) Она мыла посуду. Остановилась – я слышал, как сливается вода в жерло раковины.
– Чепуха, злобная чепуха. Как же ты довел его до такого?
И она продолжила мыть посуду, только гораздо быстрее. Мама – фанат чистоты – не замечала, сколько остается на тарелках причудливых, очертаниями похожих на медуз пятен жира. Но я-то это отметил, а через час увидел, что мать стоит у двери в комнату отца. Она стояла не меньше минуты и ушла.
Через пять лет, когда эта история овладела мной, и корежила меня, и вызывала смех и презрение к обоим, и жалость к себе, и чего только не вызывала, я спросил маму снова. Момент был правильный: после вечеринки она была нетрезва и снова поругалась с отцом. Мама сказала, что оставить меня хотела она, а он сопротивлялся. Что это была минутная слабость мужчины и что я должен простить отца.
– Ты тоже не очень-то обрадуешься, когда какая-нибудь твоя девушка сообщит, что мне, твоей матери, предстоит стать бабушкой.
И в трезвом виде мама не старалась скрыть свой феноменальный эгоизм, но эта фраза, сконструированная ее пьяным мозгом, побивала все рекорды – а их она ставила каждый день. Что из того, что я в принципе могу стать отцом – какие пустяки. Эпохальность возможного события заключалась в ее превращении в бабушку. И фраза "какая-нибудь твоя девушка" – тоже весьма типична для мамы. Моя девушка может быть только "какой-нибудь".
Родители противоречили друг другу в одном маленьком пункте – кто был за меня, а кто против, но главного уже не отрицали. Я – человек, который существует только благодаря тому мгновению, когда мама решила, что объятия лучше, чем вопли. Я сам – случайность…»
На этом три гневные страницы заканчивались. Внизу стояло многоточие – знак того, что проблема не осталась в прошлом. Она владеет настоящим и претендует на власть в будущем.
На следующее утро мобильному прокукарекать не удалось. Будильник был поставлен на десять, а звонок телефона раздался в полдесятого. Александр нажал кнопку ответа и услышал голос своего коллеги, актера Семена Балабанова. Он грохотал, он возмущался: «О люди! Порожденья крокодилов!» – не здороваясь, прорычал Балабанов шиллеровский текст. «Кто ж сомневается-то», – сонным голосом ответил Александр. «Ага! Тебе смешно! Так посмейся же громче! „Ромео и Джульетту“ будут ставить! И кто сыграет Ромео? Кто?» – «Кто?» – тихо переспросил Александр и получил в ответ рев: «Сергей Преображенский! Смейся теперь, паяц!»
Александр недолюбливал Балабанова – размашистые жесты, раскатистый голос, повадки провинциального трагика девятнадцатого века ему претили. Потому об откровенном разговоре с Балабановым не могло быть и речи. Александр не стал обсуждать с ним назначение. Тем более что он знал: чем больше он скажет, тем больше Семен процитирует. Причем фантазия Балабанова разбушуется неимоверно. Он понесет по театру: «Утром Сашке звонил! Он в полнейшем шоке! Он упал со стула – я своими ушами слышал грохот! Упал и говорит: „Этому смерду, этому плебею, этой каракатице, этой сороконожке, этой инфузории дали роль Ромео! Я увольняюсь! Я уже уволен!“»
Во избежание подобных монологов Александр сказал сдержанно: «Я не удивлен». «И это все?» – пророкотала трубка. – «А что тут скажешь?» – «Тогда прощай!» – «Да, увидимся сегодня».
День оказался еще мрачнее, чем Александр предполагал.
Он медленно пошел в ванную – тяжелые мысли пригибали его к холодному кафельному полу. На свое отражение в зеркале он смотрел с печалью. Брился осторожно, бережно, не вполне понимая, для кого и зачем совершенствует свое лицо.
Выходя из дома, он и предположить не мог, что этот день, начавшийся так печально, станет одним из самых радостных в его жизни.
…Вечером он прибежал домой и сразу бросился к дневнику.
Любовь и ненависть вышли из берегов.
«Утром мне сообщили, что роль Ромео уплыла от меня. Я был раздавлен. Смешно, но я надеялся. Судьба давала мне знаки… Но снова главную роль будет играть Сергей Преображенский – человек, которого я ненавижу с такой силой, словно он сжег мой дом, убил детей, убил само мое будущее…
Моя ненависть – существо живое, разумное и (я в этом уверен) хитрое. Она выработала стратегию выживания: когда мной овладевает ирония, она смеется вместе с ней, она совершенно согласна: да-да, само ее существование – нелепость. Но, смеющаяся, презирающая себя, она никуда не уходит. …Какая кара страшнее всех? Быть непризнанным актером. Это когда отвергнуты не дела рук твоих, а ты сам, душа твоя и тело. Вот это тело, которое не притягивает восхищенных взглядов, не вызывает вожделения у юных поклонниц, не выделяет особых феромонов, на которые летят фотографы. И режиссеры, глядя на меня, не прищуриваются в раздумье: не пригласить ли это породистое животное в новый спектакль или фильм?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
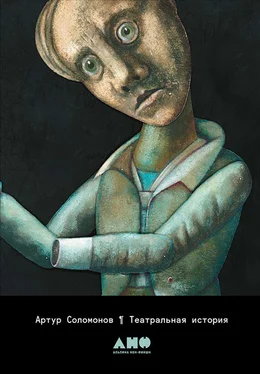




![Артур Лорентс - Вестсайдская история [=История западной окраины]](/books/422898/artur-lorents-vestsajdskaya-istoriya-istoriya-zapad-thumb.webp)




