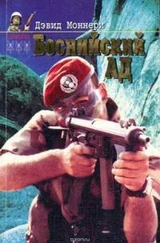Нельзя так, написал он, на все суд найдется.
И его кол, через который перебрасывается веревка. Идеальное изобретение.
Я несколько раз пытался нарисовать отцовскую виселицу. Сначала ту, что была раньше, те рисунки он увидел и порвал.
— Не смей это рисовать, — сказал он. — Не твое это дело. Впрочем, моя виселица не такая. А эта говенная, — добавил.
Он частенько употреблял крепкие словечки, но никогда — ругательства или привычные здешние выражения, с помощью которых они общались между собой. Остановятся посреди фразы, выплюнут такое выраженьице, и продолжают. Попробую написать одно: да ебись ты в сраку!
— Как она выглядит? — спросил я.
Он посмотрел на меня так, будто впервые увидел.
— Всего лишь один кол, балка, столб, называй это как хочешь, и ничего больше. Все идеальное по сути своей просто. Сама простота. Но и она, Отто, обладает своей красотой.
Никогда больше, ни до, ни после, он не говорил со мной о своей работе. И в тот раз тут же заговорил о событиях, которые сотрясали Сараево. Он настолько был предан власти, что не мог понять, почему она равнодушно относится к тому, что происходит в городе.
Почему власть не повесила кого-нибудь из этих дикарей, что разоряли лавки по всему Сараево? Ведь там и убитые случались. Парочку их на виселицу, и город успокоится.
— Есть одна здешняя считалка, по селам, куда мы не ездим, ей забавляются, называется «Сладкий кубок шербета», она так звучит: «Это трава, на которой паслась корова, которая масло дала, которое мы отнесли кузнецу, который выковал секиру, которой мы срубили дуб, на котором росла ветка, которой мы убили щенка, который укусил мужика, который принес сладкий кубок шербета». Все в ней, мой Отто, все здесь так, как в этой считалке. Все!
42
Неопубликованная заметка В. Б.
— Разве не странно, что вы, будучи обычным палачом, были знакомы со многими людьми, стоявшими на административной лестнице намного выше вас?
— Не вижу в этом ничего странного. Я был составной частью этой самой администрации, такой же, как многие из них. Полиция, судьи, палачи, все мы были имперскими служащими.
— Вы любите подчеркивать это «имперские», но ведь вы были скорее боснийскими, региональными, как это называлось.
— А это одно и то же. Без императора и нас бы не было. Послушайте, вы ведь знаете, кем был бы любой наместник в Боснии и Герцеговине без императора! Все это сразу на свои места встало, как только пришел новый император.
— Все те люди, с которыми вы встречались, не были уроженцами Боснии?
— Все мы пришли сюда, чтобы помочь, так считалось.
— Оккупанты — и помочь?
— Я не чувствовал себя оккупантом, да это и не было столь важно для меня. С чего это мне было дознаваться, оккупант я или нет?
— Вы вешали людей, которые восставали против оккупантов?
— Не знаю, против чего они бунтовали, вешал потому, что их правосудно приговорили к смертной казни.
— Тех, что покушались на эрцгерцога, и других политических?
— Я страдал, вешая политических, или им подобных, например, молодого Вешовича в Черногории. Но что бы изменилось, если бы я отказался? Их вешал бы мой помощник, кретин Маузнер. Который так и не научился вешать. Да и молодой Харт, нынешний официальный палач, не слишком-то хорошо знает свое дело. Не знает анатомии, не пользуется моей виселицей. Я слышал, он повесил последнего гайдука, Йову Чаругу, где-то в Славонии. Вот видите, за палачом аж в Сараево послали. Хотя он и не моей школы.
— Вы были знакомы со следователем Пфеффером?
— Судебным следователем на процессе заговорщиков? Да, но весьма поверхностно. Кто-то рассказывал мне, что он жив, поселился где-то в Карловаце. Его никто не любил, ни до, ни после покушения. Не могу понять, почему, а ведь он был исключительно честным человеком. Он был прекрасным знатоком своего дела, и никому не позволял давить на себя в чьих-то интересах. Таких вот обычно и не любят, потому что они никому не подыгрывают, уважают закон. Здесь, в Боснии, сильнее ненавидят именно таких людей, а не преступников, убивающих людей из-за их религиозных убеждений. В Баня-Луке был некий Лазарини, его тоже никто не любил, хотя, как говорили, лучше его там никого не было. Он не позволял им напиваться. Требовал, чтобы они работали. Ну так вот, и я тоже далеко не святой, но почему надо ненавидеть такого человека? Так и с Пфеффером. Были еще такие, только я их по именам не помню уже.
На самом деле он помнил, да только не хотел говорить о них. Он знал куда больше, чем можно было себе представить. Он был в самом центре общественной жизни.
Читать дальше


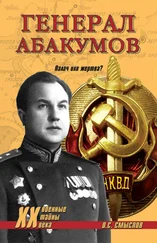



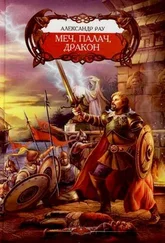
![Александра Лисина - Палач [СИ]](/books/429424/aleksandra-lisina-palach-si-thumb.webp)