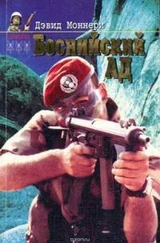Я переписал молитву с его листочка и пояснительные слова патера Пунтигама, теперь это принадлежало мне, но я хотел, чтобы оно оставалось отцовским. Или чтобы мы с ним слились в этой записке, и мне бы хватило этого. Но только перед виселицей я не хотел быть с ним одним целым. И чтобы он мне слова об этом не говорил, нет, не хочу, не могу слушать, затыкаю уши, чтобы не слышать себя самого. Странное это мое описание, опасаюсь перебраться на другую сторону, как пассажир на палубе парохода, который так согнулся на трапе, что не может более оставаться на своей ступени, скользит и в конце концов падает в трюм. Отец перед виселицей и есть трюм того парохода, на палубе которого я стою, упираясь ногами в ступеньку, на которой оказался. Как будто я этими словами бросаю якорь, закрепляюсь, чтобы меня не унес прилив неотчетливых воспоминаний.
Из всех картин, на которых я старался изобразить отца рядом с его виселицей, только одна сумела просто раздавить меня. Я уничтожил ее, хотя это была, пожалуй, лучшая моя работа. Отец под виселицей в образе одного из римских солдат, распинающих на кресте Иисуса. Меня просто ужас охватил, когда этот образ, непонятно откуда, родился в моей голове. Может, потому, что я впервые расставил вокруг виселицы несколько фигур, среди которых отец в своем черном костюме выглядел верховным исполнителем самой страшной в мире казни.
Святотатство ли повешение? Не об этом ли отец разговаривал с патером Пунтигамом? И что тот ему ответил?
33
Объективный голос рассказчика шепчет на ухо самому духу этой истории.
В новом, двадцатом веке мир даже не собирается успокоиться. Зайфрид было понадеялся, что народ, который он воспринял как свой собственный, примет и его. Его не просто как человека, ничего подобного он не требовал даже там, где когда-то находился его отчий дом, но как чиновника империи, руководимой высочайшей мудростью. Все в ней упорядочено, продумано, облагорожено императорским умом. Но здесь мало кто готов согласиться и признать это. Напротив, все делают для того, чтобы состояние дел ухудшилось. Все плохо, говорят рабочие, хотим больше получать и меньше работать. Ничего в ней хорошего нет, говорят про веру, утверждают приверженцы по меньшей мере двух других, да и третья вера, жидовская, тоже недовольна. И только католики помалкивают. Но и в их среде агитаторы призывают к беспорядкам, а не к порядку. Приезжают — Зайфрид бы ни за что не поверил, если бы не видел собственными глазами — из Загреба, будто работу ищут, а на самом деле подстрекают рабочих.
На востоке Европы еще хуже. Недавно русского царя свергли. Много здесь таких, что радуются этому, не любят русских. Зайфрид следит за событиями и не может не дивиться как легкомысленному русскому народу, так и безумным сараевским журналистам, которые этому не нарадуются. Не знают, идиоты, что царская власть есть знак божественного промысла, и человек не смеет мешать ей и подстрекать против нее. Царь — человек, он и ошибиться может, как же ему не ошибаться, но неужели его грехи настолько тяжкие, что после него никто их повторить не посмеет? Это все равно что свергнуть отца, который не дает тебе совсем пропащим стать. Не любишь его за то, что он из тебя человека сделать хочет. А ты желаешь негодяем стать, ухватить чужое и никогда больше не работать.
Рушится и распадается всякая старинная власть. Та, что была от Бога. Единственным авторитетом призваны стать они сами, какие-то новые революционеры, желающие контролировать мир из своих мрачных лож. Божий порядок не уважают. Слуги дьявола!
34
Рассказу необходима помощь со стороны, голос рассказчика, который вовсе не всеведущ, скорее всего, он просто любознателен. Сует нос куда попало, но рассказ в классическом его понимании не просто одобряет это, но и требует некоторой объективности. Особенно с той стороны, с которой ее пока не наблюдалось, со стороны закона, порядка, гражданского послушания. Ja, ja, послушания, а как вы думали? О, брат мой любезный, как бы нам не соврать более положенного!
Демонстрации 1906 года в Сараево и жестокий ответ власти.
В городе смятение. Что случилось с порядком и законом? Те, кто должен соблюдать закон и уважать порядок, требуют каких-то своих прав. Права на что? Какие права? Есть ли нечто такое, что им можно было бы дать, и о чем бы не подумала власть и не дала им? Особенно император.
Стачка! Что это такое? Бунтуют рабочие, не желают трудиться. Что-то в этом роде.
Читать дальше


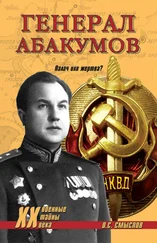



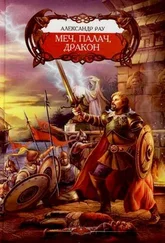
![Александра Лисина - Палач [СИ]](/books/429424/aleksandra-lisina-palach-si-thumb.webp)