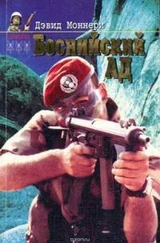Зайфрид понимал систему, важной составной частью которой был он сам, не такой значительной, скажем, как генерал Конрад, который подавляет восстание, не как генерал Ауфенберг, сегодня, наверное, лучший немец в Сараево. А после, скажем, патера Пунтигама, который основал иезуитскую школу для молодежи, куда он попытается пристроить своего Отто. Должен бы принять, Господь Бог на его стороне. Ведь только Он знает, для чего рождаются такие создания.
Паулина не понимает этого, но он не может злиться на нее по этой причине. Она в большей степени мать, нежели подданная нашего императора. Была бы настоящей подданной, то стала бы и истинно верующей. А так, прав патер Пунтигам, сколько не ходи она в костел, все равно остается вне веры.
Ходит, потому что должна, не по убеждению. Если бы по убеждению, то поняла бы, что Отто — Божий промысел. Какой? Он не знает, откуда ему знать.
Обошла с сыном все монастыри, все святилища и лечебницы. Была и в Олове, где чудеса случаются. По крайней мере, так говорят. Но только не с Отто. Чудеса не для него. Это не значит, что чудес вовсе нет, они есть, просто предназначены для избранных. Если Бог на них перстом укажет, они выздоравливают, выпрямляются, растут, горбы исчезают. И к чему все эти хождения, купания в минеральных водах, бесчисленные четки, если Бог тебя не имеет в виду, то зря стараешься.
Зайфрид не хотел ехать ни в Олово, ни в Фойницу, ни в Королевскую Сутьеску. Паулина остатки надежды вложила в Олово, и потому, возвратившись, настолько была подавлена, что несколько дней не могла ни есть, ни говорить. Ноги у нее распухли от хождения, несколько месяцев не могла прийти в себя.
— Не могу на него на такого смотреть, — вскрикнула она однажды и рухнула на пол рядом с кроватью, на которую опустила маленького Отто. Когда вошла в комнату, за ней остался кровавый след. А мальчик не плакал, и даже улыбался отцу. Зайфрид глазам своим не хотел верить, что малыш улыбается ему, своему отцу. Благословен будь, Господи на небеси, слишком мы ничтожны, чтобы знать, чем ты нас испытуешь и какой знак нам шлешь! Едино Иисус велик, не устает повторять патер Пунтигам, все прочие малы и ничтожны. Но сильны они, когда становятся Иисусовым войском, когда вступают в ряды Иисусова ордена.
Император тоже знает, думает Зайфрид, что Отто после смерти будет с Ним там, наверху, у самых коленей Его сидеть, как эти горцы в своих гуслярских песнях сажают своего древнего царя Лазаря. А на деле-то Лазаря там нет, да и не будет никогда.
21
Не знаю, действительно ли отец был глубоко верующим. Несколько раз мы вместе ходили в церковь, таков был обычай, особенно в Рождество и на Пасху. Наверное, не ходить было нельзя, но не знаю, обязательно ли было присутствие там всей семьи. Когда он решил взять нас с собой, мы отправились словно на похороны. Оба они молчали, мама вела меня за руку. Но для того, что я сейчас намереваюсь написать, не имеет значения вопрос о степени его религиозности, а отношения, существовавшие между совершенно разными людьми, уроженцами Австрии. Их как будто стравливали друг с другом, причем в этом участвовали и те, от которых никто не ожидал ничего подобного. Так было и в нашем случае. Пожалуй, мне было лет десять, не больше. Я немного умел читать, еще меньше — писать. Мама научила меня тому, что знала сама. После всех ее попыток призвать на помощь чудо разговоры о школе обрывались, едва начавшись, и отец решил поступить по-своему.
Однажды утром, студеной зимой, он отвел меня в иезуитский питомник, назывался он «Конгрегация девы Марии», которой заправлял патер Пунтигам. Там были еще с десяток мальчиков, один похожий на меня, остальные абсолютно нормальные. Они рассматривали меня, я — их, потом я сел за парту в самом углу небольшой комнаты. Несмотря на то, что в ней было ужасно холодно, мне пришлось снять зимнее пальто и шапку. Я дрожал, зубы мои стучали, я страшно заикался, отвечая на простые вопросы, заданные патером Пунтигамом. Он хотел услышать, как меня зовут, сколько мне лет и молюсь ли я перед сном. Слышал ли я про Иисуса и его страдания? Об этом я ничего не знал, и потому молчал, что ему не понравилось. А может, мне это только показалось, потому что патер Пунтигам вечно был хмур и серьезен.
Так началась моя учеба, если это вообще можно так назвать. Впрочем, можно, хоть такая, но все-таки учеба.
Патер Пунтигам говорил размеренно, слово за словом, будто читал. Все время какие-то указания, это вы можете, это не смеете. Я плохо запоминал его слова, однако он их повторял, и в итоге мы их запомнили. С нами он говорил на местном языке, в названии которого я до сих пор не могу разобраться, со взрослыми — по-немецки.
Читать дальше


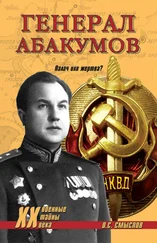



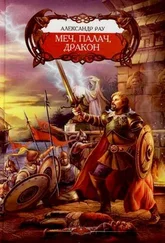
![Александра Лисина - Палач [СИ]](/books/429424/aleksandra-lisina-palach-si-thumb.webp)