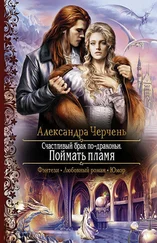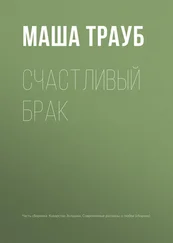— Ну да, этого не может быть. Исключено, чтобы в городе было две 173-х. — Взгляд его покрасневших карих глаз пренебрежительно скользнул по Энрике. — Ты просто забыл номер своей школы, — с уверенностью заключил Бернард.
И тут Энрике, не сдержавшись, продемонстрировал Маргарет свою вспыльчивость, чего уж точно не следовало делать.
— Я ничего не забыл! — огрызнулся он и, резко дернувшись, едва не свалился со стула. Он ухватился за стол, и кофе выплеснулся из белых кружек на блюдца. В воображении Энрике тут же возник Гильермо, его отец, чье тело было слишком крупным для большинства комнат и чей дух не могла вместить ни одна. Краем глаза Энрике заметил, что Маргарет подхватила свою кружку, пока та не опрокинулась окончательно, и потянулась к соседнему столику за салфетками, чтобы вытереть стол. Ее поведение явно указывало на то, что он ведет себя слишком неуравновешенно, чтобы оставаться привлекательным в глазах любой женщины, а тем более такой жизнерадостной. Способность Маргарет сохранять хорошее настроение была просто удивительной. Они провели в разговорах около восьми часов, и она даже ни разу не нахмурилась, оставаясь неизменно милой и доброжелательной — совершенно поразительно, ведь она была не из вечно улыбающихся дурочек. Но даже страх лишиться ее расположения не заставил Энрике держать себя в руках:
— Господи Иисусе, Бернард, я жил напротив 173-й! Я ходил туда до шестого класса. Побойся бога, я был первым президентом школьного совета. Ошибки быть не может!
У Энрике был низкий звучный голос, весьма ценное качество, учитывая, что при росте шесть футов четыре дюйма [11] 190 сантиметров.
он весил, как узник Бухенвальда — 130 фунтов [12] 59 килограммов.
. Прямые, чересчур длинные черные волосы падали ему на лицо, отчего оно казалось еще уже. За этой худобой, обилием волос и очками в толстой черепаховой оправе было трудно разглядеть теплые карие глаза, высокие скулы, крепкий подбородок и полные губы. В нем не было ничего привлекательного, кроме голоса, голоса мужчины, способного увлечь собеседника. Но когда Энрике сердился, его глубокий баритон громыхал с такой силой и презрением, что мог и напугать. Это было первым пунктом в списке претензий Сильвии к их совместной жизни. Энрике постоянно извинялся за вспышки ярости, обещал усмирить свой нрав, но на самом деле он просто не представлял, каким резким и неприятным может выглядеть со стороны.
Он не понимал, как его колючки могут царапать противника до крови. Ему-то казалось, что если он когда и бросается в атаку, то только для самозащиты. Возможно, если бы его жертвы заранее знали, что Энрике, который поначалу кажется таким милым и уступчивым, умеет показывать зубы и кусаться, они были бы осторожнее. Но о каких предупреждениях можно было говорить, если их обидчик предпринимал невероятные усилия, чтобы скрывать свои слабые места?
Энрике сделал глубокий вдох, чтобы прийти в себя, и осторожно покосился на Маргарет: догадалась ли она, увидев его в гневе, что он из тех мужчин, которые своей грубостью могут толкнуть любимую женщину в объятия другого? В то же время Энрике не сомневался, что если бы Маргарет узнала всю правду, то увидела бы ошибочность обвинений Сильвии в «юношеских припадках гнева». Он сказал себе, что если бы Маргарет услышала заявление Сильвии на тему «Энрике слишком привязан к родителям», она могла бы сделать вывод, как сделал его сам Энрике, что его бывшая подружка просто повторяет заезженную мудрость какого-нибудь психоаналитика. Мозгоправ, по мнению Энрике, не помешал бы ей самой: развод родителей нанес шестилетнему ребенку пожизненную травму; поэтому она не состоялась как художник, месяцами не могла создать ни одного холста, что для плодовитого Энрике являлось лишним доказательством того, насколько искаженными были суждения Сильвии о нем самом. Да, именно так он пришел к тщательно выверенному заключению, что все до единого его обвинения против Сильвии и ее друзей справедливы, и пусть порой ему следовало сдержаться, но по сути он был совершенно прав.
Бернард понял, что Энрике готов вспыхнуть, и попробовал чиркнуть спичкой. Откинувшись на неудобном сосновом стуле и стукнувшись спинкой о стену, Бернард свысока взглянул на Энрике с тем же выражением, какое у него бывало при игре в покер, когда он собирался бросить на стол выигрышную комбинацию карт. Продемонстрировав то, что у него считалось улыбкой — одна сторона губы насмешливо изогнута, вариант еврейского Элвиса Пресли, Бернард пробормотал:
Читать дальше