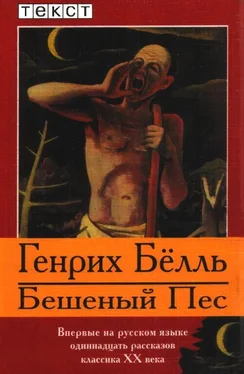Одна из дверей, выходивших в коридор, была теперь открыта, и я сразу почуял, что именно за этой дверью рыба, лук и уксус превращались в еду. Запахи переполнили небольшую комнату и теплыми отвратительными облаками поплыли по коридору; я услышал, как сырую картошку высыпали на сковороду с горячим жиром и как шипенье жира мало-помалу сменилось тихим урчаньем. Потом из двери выплыли тучи темно-серого дыма, узкими и полупрозрачными полосами вытянувшиеся в сторону лестничной клетки. Дом теперь был полон шума, то и дело где-то хлопали двери.
Я медленно подошел к открытой двери и постоял у стены, наблюдая за толстой низенькой пожилой женщиной; левую руку она сунула в вырез платья, а правой медленно переворачивала картошку на сковороде. На неопрятном столе высилась огромная фарфоровая миска, в которой голубоватые куски рыбы плавали в уксусе среди пожелтевших кружочков лука. У женщины, стоявшей у плиты, лицо было темное, почти багровое, и меня даже затошнило при мысли, что рука ее лежала на голой груди. Окошко в этой комнате было небольшое — осколок стекла в узенькой деревянной раме, которая, судя по всему, никогда не открывалась. На кухонном шкафу облезлого красноватого цвета, где стояли хлебный ящик и кухонные весы, я заметил будильник и увидел, что было без двадцати семь. Я медленно направился к лестничной клетке и стал спускаться. Белая лепнина на потолке и стенах выглядела теперь как большие грязные пятна, поцарапанные и исписанные разными словами.
Медленно шагая со ступеньки на ступеньку, я размышлял, что мне делать.
Может быть, думал я, лучше мне уйти сейчас, прежде чем я увижу, что надо уходить, и тогда я избавлю грозного ангела с мечом от выполнения столь мучительной для него задачи — изгонять меня, да еще и сопровождать мой уход с факелом и мечом. О, может быть, мне будет позволено припасть к стопам ангела на пороге дома, посидеть минутки две и застыть в этой позе под грузом последних тридцати лет моей жизни.
На одной из ступенек я остановился и заглянул сквозь дыру в стене в заднюю часть парка. Та ржавая дверца, из которой я тогда вышел, покидая дом, еще сохранилась. Она вела к соседнему участку, где парк был ухожен, а дом с новой крышей, заново оштукатуренный, так и светился благополучием, уверенностью и покоем. Большие продолговатые ставни были выкрашены блестящей краской приятного цвета и предназначались, очевидно, для того, чтобы загораживать такие же продолговатые, очаровательные, высокие окна во время ночного покоя или ночных праздников. Газоны были перекопаны и засеяны заново; я увидел прелестные хрупкие ростки самой первой зелени — нежное оперение весны, увидел грядки, на которых аккуратными рядами были посажены анютины глазки, и заметил молодую стройную женщину, медленно идущую бок о бок с таким же молодым и стройным мужем, они горделиво улыбались, любуясь своим садом. На женщине была длинная темно-коричневая юбка, чуть темнее ее густых волос с рыжеватым отливом, желтый пуловер оставлял открытой лишь узенькую полоску ослепительно белой шеи — полоска эта казалась драгоценным в своей простоте ожерельем.
Они производили впечатление кукол, мастерски изображавших веселье, безукоризненными были их улыбки — в меру утонченные, в меру эмоциональные. Их жесты и походка были так безупречны, что не каждый заметил бы: да ведь они же статисты в фильме, обреченном на счастливый конец!
Я медленно продолжал спускаться, дошел до первого этажа и увидел, что дети все еще играли в мяч у входа. Было очень приятно смотреть, как их упругие мячики летали туда и обратно в серой раме яркого света, падавшего сквозь дверной проем, как они мягко стукались о пилоны из песчаника, и слушать звонкие и энергичные голоса обеих девочек, неустанно считавших очки.
Только теперь, выйдя из дома, я заметил, что и в подвалах кто-то жил. Из отверстий в окошках торчали ржавые, коричневатые трубы, из которых валил дым, а вместе с ним и всевозможные кухонные запахи. За окнами, наполовину выходившими на поверхность земли, я увидел кое-где слабый желтоватый свет, услышал по радио звуки и голоса и неожиданно почувствовал, что руки, вроде бы спокойно лежавшие в карманах, взмокли от пота: я не выносил эту музыку, по всему миру лившуюся из льстивых отвратительных устройств — репродукторов, не выносил эту вкрадчивую болтовню, своей спокойной и мягкой самоуверенностью внушавшую страх. Нигде не было спасения от этой пустой болтовни, нигде не было спасения от этой псевдомузыки, которая из миллионов репродукторов, словно нескончаемая слизь, капала на мозги человечеству. Казалось, по всему миру разносился и этот запах лука, рыбы, уксуса и жареной картошки. Мне так нестерпимо захотелось зарыться глубоко в землю, заткнуть уши и лишь временами высовывать голову, чтобы вдохнуть воздуха, молча слушать пение тишины, этого ласкового, утраченного остатка рая.
Читать дальше