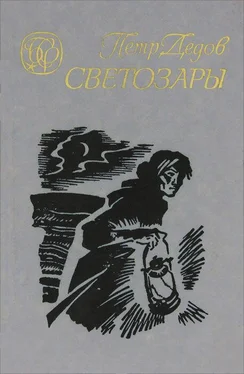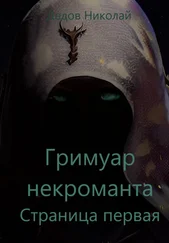— Ты живой ишшо, солдат? — осведомится с порога, потом, кряхтя, залезет по припечек, свернет по цигарке для себя и для дедушки. Тот с первой затяжки зайдется в кашле, обуглится лицом, о Тимофей бестолково суетится, не зная, чем помочь:
— Вот якорь тебя зацепи, хотел вить, как лучше…
— Не… выкурил я, видно, свой лимит, — стонет дедушка, отхаркиваясь в тряпицу, — пора уж, сынки, Паша с Никитой, должно, обо мне соскучились.
— Погоди, поживем ишшо трошки, там належаться успеем, поди.
— Оно-то ток. Шибко уж до победы дожить охота. Маленько уж осталось, под Берлином, говорят, наши-то… Да ей ведь, курносой, не прикажешь…
— Крепись, солдат, авось дотянешь, — успокаивает Тимофей. Они долго молчат.
— Как там, на улице-то? — спрашивает дедушка.
— Дак весна хорошая, дружная. Снег с пашни сволокло, землица паром исходит, аж стонет — зернышка просит. Счас бы только руки, да где оне?
— Беда-а, — вздыхает дедушка. — Вот она, жись-то — пролетела, будто ничего и не было. Сынов ростил, хотел память после себя оставить — и те погибли. Где же она, справедливость-то, куда же это господь бог-то смотрит?
— У бога нас много, за всеми не доглядишь. А если он в самом деле есть, дак пошто такое допущает, што люди мильенами гибнут? Почитай, только наша деревня почти вся осиротела…
— Беда-а…
Тимофей собирается уходить, и дедушка напоминает ему:
— Ты уж, Тима, того… Сам уж насчет могилки-то побеспокойся в случае чего… Повезло ишшо мне — весна. А зимой ее, землицу-то, хоть зубами грызи…
— Ладно. Порядок будет. Об етом не тужи…
Мне жалко дедушку. Кажется, все только и ждут его смерти, никому он теперь не нужен — обузою висит на семье. Бабушка Федора, так та сказала как-то с присущей ей прямотою:
— Развязал бы ты поскорее нам руки, отец. Все равно жильца-то из тебя уже не будет, — гляди, землею весь взялся, серым мохом обрастать стал. А лишний кусок ребятишкам бы на пользу пошел, от голодной смерти спас…
И дедушка, кажется, даже не обиделся на эти жестокие слова, а лишь сказал смиренно:
— Так-то оно так, да ить тут воля божья… Когда-то вогул мне один рассказывал… У них закон такой: собрался помирать — уходи в тундру, там и окочуривайся, штобы, значит, лишним ртом не быть и у других под ногами не путаться… Правильный закон, да только куда мне теперь — и за порог выползти не смогу…
Бабушка вдруг всхлипнула, утерлась концами передника. Я испугался, я никогда не видел ее плачущей.
— Прости, отец, — проговорила она сквозь слезы. — Вот ведь до чего дожили, могли ли подумать о таком… Почти полвека вместе, а теперь сама смерти тебе молю…
— Обижал я тебя… Поди, доброго слово от меня за всю жисть не слышала. Прости и ты меня, мать…
Бабушка заплакала навзрыд, потянулась к деду на припечек:
— Уж не поминай об этом, прожили не хуже добрых людей… И тебе ить было не легко, а доля наша бабья известная…
— Ну, хватит, — строго сказал дедушка, — прибереги лучше слезы-то. Вот победы бы только дождаться, Андрюху увидеть бы… А не дождусь — скажи ему, пущай по чужим городам не шастает, отцовский дом пустует, мол… А ты ему не помешаешь, с внуками нянчиться будешь… Лексея вот тоже женить бы надо. Оглох он совсем, да теперь бабы не шибко-то разборчивы… Ты сама об этом позаботься, а то он, как пень березовый, — за версту девок обходит… Да скажи обоим, и Андрею, и Алексею, штобы Павловых ребятишек не забывали, помогли Марье поднять их на ноги. Отец, мол, перед смертью наказывал, последняя воля его такая была…
Только через много лет, когда стал взрослым, понял я всю суровую правду бабушкиных слов, их жестокую необходимость: хотела она, бабушка Федора, чтобы скорее пришла смерть ее мужа, безнадежно обреченного, — надо было сэкономить лишний кусок хлеба для спасения наших жизней.
А тогда я не понимал этого и страдал, и до слез мне было жалко дедушку, и казалось, что его нарочно морят голодом, не кормят и не поят.
В школе нас немного подкармливали — на большей перемене давали пшенную болтушку, такую жидкую, что мы даже сочинили песенку: «крупинка за крупинкой бегает с дубинкой, хотели бы подраться, да где крупинкам взяться?». И вот после того разговора я взял в школу порожнюю бутылку и, придя на обед позже всех, тайком слил в нее свою порцию болтушки. А вечером принес деду. Дома у них никого не было: бабушка убежала к нам управляться по хозяйству, а дядя Леша, как всегда, до полуночи колотил в своей кузнице. Я залез к деду на печь, протянул ему бутылку:
Читать дальше