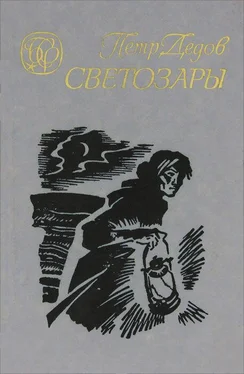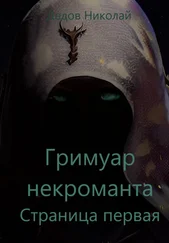Забылись все недавние горечи и обиды, я всем телом прижался к вздрагивающей земле, чувствуя, как к сердцу подступает буйная радость, смешанная с необъяснимым страхом. Теперь уже гремело без перерыва, и без перерыва сверкали молнии, багровым зловещим светом озаряя землю, и ровные дождевые струи при этом свете походили на стебли неведомых растений, которые, казалось, можно раздвигать руками…
И мне почудилось, что когда-то и где-то я уже видел это бешенство воды и огня, и я уже не в силах был лежать на месте, — хотелось, запрокинув голову, бежать и грозу и кричать. Вот как Сашка с Тамаркой, которые вытащили наконец лодку и рванули к табору, подпрыгивая и дурачась на ходу.
Когда они убежали, я тоже выбрался из своего укрытия и припустил к дедушкиному балагану. Наперерез мне, чавкая копытами, проскакал Громобой. У балаганов я чуть не налетел на повариху бабку Кулину. Она смотрела на небо и мелко крестилась:
— Господи-иисуси, страхи-то какие! Сколь живу — отродясь такого не видела. Не к добру это, не к добру-у…
У бабки на сенокосе работало четыре сына. Все они жили отдельными домами, а тут как раз такой случаи: побыть с ними вместе, покормить из своих рук, как тогда, когда были они маленькими. Вот и притащилась вместе со всеми в поле. Сейчас платье на бабке намокло. Она была длинная и худая, как черпая оглобля. Я мокрым мышонком шмыгнул мимо в душную нору балагана…
Проснулся поздно. Солнце было уже высоко, и я удивился, что дедушка не разбудил меня на работу. А когда огляделся, то понял, что не работал никто. Мужики толпились вокруг бригадира Сереги Киндякова, который, видать, только что приехал из деревни, весь был заляпан грязью. Бабы стояли в сторонке, в горестных позах скрестив на груди руки и подперев ладонями подбородки. Бой-баба Мокрына Коптева тихо плакала и сморкалась в уголок платка.
Дедушка сидел за балаганом и тюкал перевернутым молотком по лезвию косы. Я подошел к нему. Он не взглянул на меня, красная его борода, всегда расчесанная и ухоженная, была всклокочена, в ней запутался засохший цветок ромашки. И еще я заметил, дедушка тюкал косу по одному и тому же месту. Наконец он тихо сказал, не поднимая головы:
— Война началась, Серега…
Поздняя осень… Давно уже отзвенели тихой медью погожие деньки бабьего лета, золотыми метелями откружил листопад, и теперь пустынно, неуютно в поле и в лесу, глухо и тоскливо во всей природе.
Полевая дорога: тускло блестят размытые дождями колен, ветер свистит в придорожных голых бурьянах, грязные клочья туч проносятся низко над землей, задевая верхушки деревьев. Вон озябшая ворона сидит на потемневшей от сырости копне сена, холодный ветер ерошит ее перья, ворона хриплым, простуженным голосом кричит в серую ветряную пустоту:
— Кар-р, кар-рр!
А то разыграется ночью целая буря, загудет, застонет над степью, молодецким, разбойным посвистом отзовется в черных лесах…
Но утихнут бури, кончатся беспросветные гнилые дожди, и вот однажды под утро упадет на грязную землю сверкающий колкий иней, закраины озера схватится стеклистым ледком, и когда в ясное небо поднимется солнце, то таким праздничным блеском засияет мир, что дух займется от свежести, простора и чистоты. Изморозь ознобит прибрежные тальники, остывая, задымится туманом сразу потемневшая вода, и жестко, жестяно зашелестит вмороженная в лед осока.
Вялая рыба соберется в косяки, пойдет по озерному дну искать глубокие илистые ямины для зимовки; и даже хищная щука в это время равнодушна ко всему, она тоже плавает сонно, еле шевеля рыжими плавниками: ищет себе зимнее убежище.
Запоздалая стая лебедей протянет над озером и, может быть, снежными хлопьями опустится на пустынное жнивье — покормиться перед дальней дорогой…
Зима как-то сразу навалилась на нашу деревню, большими снегами и ледяным мраком придавила к земле и без того низкие саманные да пластяные избы. Тихо сделалось в деревне, даже собаки перестали брехать, словно околели все до одной. Дни стали короткими, «с гулькин нос», как говорит бабушка. Медлительно, нехотя займется серенький рассвет, самую малость постоит морозный дремотный денек, а там, гляди, и снова вечер, и снова шорох метели по крыше да тоскливый вой ветра в трубе…
Скучно в такие вечера, одиноко. На улицу выйдешь — холод собачий, и темень такая, что давит, гнет к земле, и хоть волком завой — все равно не откликнется тебе живой голос. Только, может быть, далеко за озером завизжат полозья сапой — запоздалая баба возвращается домой с сеном или дровами.
Читать дальше