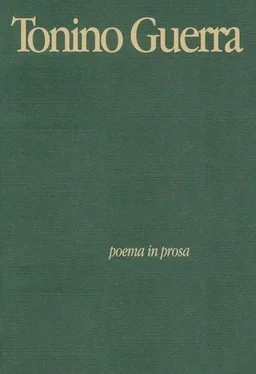Чайка подошла еще ближе. Уже возле носка правой ноги. Глядит на меня, я продолжаю смотреть в море. Вспрыгнула на ботинок, затрепетала внезапно крыльями, будто передернулась от озноба. Идет вверх по ноге, сминая лапками ткань брюк. Вскарабкалась по рубашке, замерла на плече. Долго и пристально смотрит в глаза, ловя, быть может, свое отражение. Неожиданно вспархивает на голову, приминает волосы, устраиваясь поудобнее. Разглядывает меня сверху. Сравнивает с жестяными колоннами или с чем-то еще, отложившимся в памяти. Потом спускается на левое плечо, оттуда вниз по руке к самым пальцам, увязшим в песке. Спрашиваю себя: схватить ее или отпустить на волю? Может, весь смысл происходящего в том, что я охочусь без ружья, без стрел, без какого бы то ни было оружия, предоставляющего возможность убивать на расстоянии? Я могу схватить эту чайку и свернуть ей шею. Не этого ли я, по сути дела, всегда и желал?
Рука, увязшая в песке, приподнялась, погладила чайку. Два пальца коснулись сначала нервно дрогнувшей головы. Потом вся ладонь скользнула по спинке.
Мне любопытно, откуда появилась в руках эта ласковость. Или они вышли из подчинения? В них доброта, которой в себе я не чувствую. Моя воля бежит кровотоком и достигает пальцев правой руки. Внезапное покалывание, почти отвращение к этой крови, доставившей срочный приказ, его четкая формулировка вразрез с жестами рук. Они подружились с чайкой. Но в конце концов большой и указательный пальцы подчиняются злой воле и смыкаются кольцом на шее птицы: она задергалась, пытаясь освободиться; изо всей силы забила крыльями по руке. Головка вертится в железном кольце, глаза подернулись туманом, лапы царапают рукав; ветер, поднятый крыльями, ударил меня в подбородок, взметнул волосы. Движение вдруг прекратилось, ужаснувшееся тело остыло, чайка повисла свинцовым отвесом в руке.
Уметь сосредоточиться — самое трудное. Сосредоточиться на воспоминаниях, на отдельной мысли — легко. Сосредоточиться на том, что есть нуль, на белом или голубом, пустом или лишенном смысла — смертельно трудно. Закрываю глаза. На час, на два. Пусть воспоминания, слова, мысли уйдут из головы. Чувствую: клокочут они в черепной коробке. Им нужен выход. Выпускной клапан. Не знаю отчего, мне показалось, что выйти они могут через нос. Изо всех сил выдув воздух, я почувствовал облегчение. Или это самообман? В таких случаях каждый исцеляет себя по-своему. Результат все или ничего. Мне показалось, кое-что вышло. Не одно сотрясение воздуха. Вышли воспоминания, отдельные факты. Вышел замысел вещи, мною любимой, всегда грузом лежавшей на сердце. Открываю глаза, впускаю в себя морскую воду, в те отсеки нутра своего, которые теперь свободны от тяжести прочих мыслей. Осталось лишь снять препоны, ощутить себя составной частью моря. Самому стать влагой. Тысячу раз повторяю: вода. Прислушиваюсь к шуму быстрой волны, меня захлестнувшей. Внезапно тело мое распахнулось, обрело невесомость и растворилось.
Он появился за изгородью, или, скажем, так: вышел из того самого кустарника, где во время войны прятались мы с отцом; сначала показалась голова Поверенного в банковских делах, потом туловище и ноги. Да, это был он, собственной персоной: поиски ящиков с фонтаном привели его в наш город; хотел попробовать заняться поиском с того самого места, откуда все началось. Впрочем, он приехал ко мне погостить; может, я как раз тот человек, на чью помощь он надеется в решении этой и прочих проблем. Бродил в узких улочках, отдыхал в тени, палочкой что-то чертил на земле. Видя перед собой такого человека, я тоже взялся за поиск ящиков. Если они не отыщутся здесь, я готов поискать их даже в Америке, потому что так или иначе что-нибудь обнаружится.
ДОЖДЬ НАД ВСЕМИРНЫМ ПОТОПОМ
Просветленное одиночество
Следы на снегу
Среда 3 — Погода стоит скверная. Уже два дня, как мы в Пеннабилли. Все в полном порядке. Правда, полно скорпионов, коих мы безжалостно уничтожаем. Мичико — кот, наследство римского антиквара, и Джанни — друг, ему шестой десяток, он цирюльник, историк и помощник, помогает нам преодолевать все трудности жизни.
В мои годы неплохо пожить в окружении гор. Слышно, как дождь орошает листья деревьев, а не болтовню прохожих под окнами. Всегда лучше жить там, где слова способны превращаться в листву, обретать цвет в тон облакам и мчаться по ветру. Слово должно хранить настроение времени года и звучание места, где оно появилось на свет. Неправда, будто слово равнодушно к воздействию шума или тишины у его колыбели. Слова звучат по-разному под дождем или на солнце, способном обжечь гортань.
Читать дальше