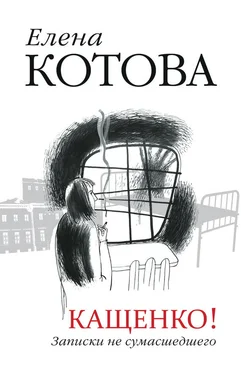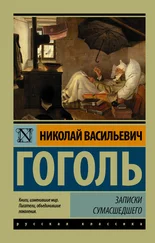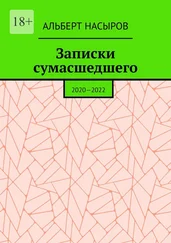Даю отлуп попрошайке сигарет Елизавете Борисовне, представлявшейся несчастной старушкой, которую обобрали и запихнули в дурку родственники. За пару недель прояснилось: старушка, оказывается, года три назад по пьяни переписала свою квартиру на любовника, родственники или дети с ним судятся и доказывают старухину невменяемость.
– Елизавета Борисовна, что вы клянчите? Сортир помойте, вам сигарет дадут.
– Я мыла.
– Еще раз помойте, если сигареты нужны.
– Ты же мне раньше давала.
– Раньше давала, а теперь кончились.
– И что, не дашь больше? Тогда оставь покурить.
Это Ноздрев. «Не хочешь коня, купи шарманку… Ну, дай мне, по крайней мере, влепить тебе одну маленькую безешку».
«Разведчице» Марианне, судя по всему, принесли голубые шорты, и не только их. Она летает по отделению в розовых легинсах и в коротком развевающемся шелковом кимоно с замысловатым принтом бирюзового, желтого и ярко-розового цветов. Еще один несчастный персонаж: полное одиночество, отверженность из-за крайней асоциальности, которая трансформировалась в манию величия, необходимую ей для сохранения веры в собственное бытие. Она суетлива, нервно кружит по коридору, ко всем пристает, командует, одергивает и тут же уносится прочь по коридору, хлопая крыльями пестрого кимоно. Почему-то сегодня только ее, одну ее из всех остальных, мне действительно жалко. В ней не убита мысль, не атрофированы чувства, она – не «зеленая Шанель». Хуже или лучше – не мне судить, но видно, что она себя ест поедом, страдает, она хорошо видит и понимает развилки своего возможного будущего, думает о них и гонит мысли об этом будущем, потому что оно страшно. Забвение реальности, затухание разума – это не мука. Мука – это несовместимость причуд разума с реальностью вокруг. Поэтому мне очень жалко Марианну.
В сумраке коридора бродит – туда-сюда, туда-сюда – девушка с мрачным лицом, с валиком жира на месте талии и круглым плотным животом. Серо-серебристое коктейльное платье, поразившее меня накануне, сменилось белым с черными цветами и красными кантиками по вырезу и проймам. Платье, понятное дело, снова мини, снова без рукавов; место, где должна быть талия, перетянуто широким резиновым поясом. «Так это та же самая, что днями назад снесла раковину в ванной! – прозреваю я. – Та самая, которую трое суток назад вязали санитары, волоча по полу в задранном халате, под которым колыхались толстые ляжки цвета непропеченного теста».
Зачем мне такое изобилие персонажей? Это сколько романов, рассказов придется написать, чтобы всех их расселить? Сопереживать им бессмысленно, винить их в чем-то, как это делала «Хармс», – тоже.
Они вне смысла. Вне вины. Это даже не Гоголь и не Салтыков-Щедрин. Это – последний кадр из фильма Звягинцева «Елена», который мне особенно и не нравится, но последний кадр потрясает: годовалый малыш, блестя озорными глазками, ползает по одеялу. Он не ведает и вряд ли имеет хоть какие-то шансы узнать или понять, что рожден от родителей, не способных ни воспитывать детей, ни работать, ни думать. Только пить пиво и плевать семечками с балкона, пока пиво и семечки им покупают другие. Малыш, чья судьба – быть вне – предопределена.
Хватит засорять язык, хватит писать «ща», «чё», «ваще» и «блин», – а ведь еще вчера это казалось и короче и выразительней. Так нельзя. Хватит вживаться в мир девятого отделения, принимая его уже как свой. Я же в первые дни была от него совершенно отстранена, говорила себе, что я просто смотрю кино. Потом был период вживания в этом мир, решением суда ставший моей средой обитания. Что-то я слишком сильно в него вжилась, стало сносить фильтры и барьеры. Надо снова вспомнить, что это кино. Мое окно наизнанку – разве это не экран? Я смотрю сквозь него то на мир, мне сейчас не доступный, то на приключения персонажей в коридорах и палатах, где меня нет. На приключения множества персонажей, и у каждого – своя жизнь. Смотрю фильм тяжелый, местами ужасный, чаще просто скучный, я смотрю его нередко через силу, но смотрю, раз уж так получилось. Кто сказал, что надо непременно проживать все происходящее на экране, обязательно сопереживать персонажам? А я проживаю, сопереживаю…
Я никогда не умела отстраняться в кино от происходящего на экране. Даже и не хотела. Я любила и плакала вместе с героиней, прятала лицо в ладони, когда кого-то на экране мучили, сжималась в комочек от ужаса, когда «его» – меня? – вели на казнь. Это мои личные трудности, может быть, даже болезнь, с которой я и расставаться не желала. Зачем смотреть кино, если не сопереживать? Оставьте мне мою болезнь, оставьте…. Я только что не шепчу эти слова, настолько точно они передают мое отношение к кино. Благодаря ему я проживала по нескольку жизней каждый год. Правда, в последние годы хожу все реже – не вижу, кому там можно сопереживать. А желание сопереживать удивительным героям осталось. Мы все цепляемся за свою болезнь. Удивительная мысль, разве нет?! Мы все не хотим расставаться с какими-то состояниями, эмоциями, каждый со своими. Не надо погружаться в рефлексии. Кино так кино. Я приваливаюсь спиной к подушке, стоящей вертикально на раскаленной батарее, открываю ноут. На экране появляется заголовок рассказа: «Признание лохушки».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу