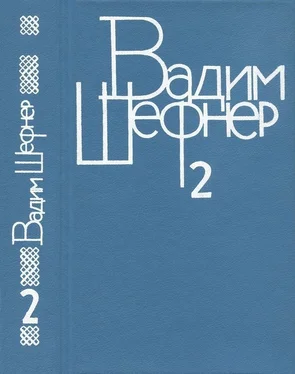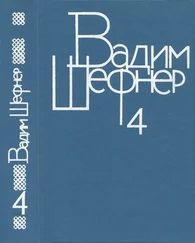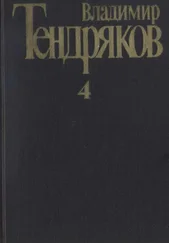Впрочем, я знал, что это не так, но мне нравилось думать о ней именно это и верить, что все так и есть, как я думаю.
С тех пор как я заметил Валю, моя жизнь в чем-то очень переменилась к лучшему, только я не знал, в чем. Ведь все было как было, все оставалось на своих местах. Но я стал видеть то, чего не замечал раньше, и мир становился для меня все шире.
Вот настала веселая, многоснежная зима. Теперь из школы мы с Колькой возвращались домой через парк, хоть для этого и надо было давать большого крюка. По дороге мы толкали один другого в сугробы, боролись, возились и домой возвращались потные, растрепанные. Сумок у нас не водилось; наши тетради, свернутые в трубки и засунутые в карманы, намокали так, что их потом приходилось сушить у печки. Однажды мой приятель из-за чего-то задержался в школе, и я пошел домой через парк один. Вначале мне скучно было шагать одному, но чем дальше я шел, тем интереснее становилось идти.
В парке стояла мягкая, пуховая тишина; была та легкая предвесенняя оттепель, когда снег еще не тает, но становится сырее, податливее и уже по-другому скрипит под ногами. В синеватом тумане высились стволы деревьев, неподвижные и тоже слегка синеватые. Вот зябко закричала большая ворона, сорвалась с верхушки дерева, полетела куда-то, — и было слышно, как воздух шуршит под ее крыльями. А у поворота аллеи стояла скамья, и снег лежал на ней таким толстым и ровным слоем, что скамья походила на диван в белом чехле.
Я свернул в боковую аллейку и побрел, сам не зная куда. «Почему это все так хорошо, так красиво и интересно? — подумал я. — Почему так хорошо?»
Теперь, когда я видел что-нибудь красивое или совершал какой-нибудь хороший поступок (что, впрочем, случалось весьма редко), мне хотелось, чтобы Валя была здесь же, рядом. А если я видел что-нибудь плохое, скучное или сам поступал плохо и знал, что поступаю плохо, мне было стыдно перед Валей, хоть она ничего и не знала об этом, да и вообще не обращала на меня внимания — ведь она была старше меня.
Пасха в том году была поздняя, когда уже все зазеленело.
В пасхальные дни мы, ребята, забирались на колокольни и звонили до одури, до боли в ушах. Всю неделю над городом стоял нестройный, похожий на набат трезвон; голуби-дикари, перепуганные, стаями, как при большом пожаре, летали вокруг звонниц, не смея сесть на привычные карнизы.
Мне лучше всего помнится колокольня при Никольской церкви — она была самой высокой. С нее были видны окрестные деревни, речка, изогнутая вольно и легко, как рука отдыхающего человека, далекий железнодорожный мост блестел на ней, как стальной браслет; синяя продолговатая ладонь лесного озера виднелась в туманной размытой дали. А городок был весь открыт взору, — как цветная карта лежал он внизу. Видна была и Последняя улица: две серые, скучные линии домов и заборов.
На колокольне этой среди других колоколов был один особенный, знаменитый на весь городок. Все колокола как колокола, все с фигурами каких-то бородатых святых на бортиках, и во все можно звонить в пасхальные дни сколько угодно. Но этот один занимал целый ярус колокольни, был он без всяких украшений, был темен, огромен, звонарь с трудом раскачивал его язык при помощи веревок и досок; мощные, наискось идущие балки подпирали его верхушку, какие-то переборки, крепленные грубыми, коваными болтами, шли через весь ярус, но и они, казалось, гнулись, глухо стонали от несусветной тяжести черного колокола. А звон его был подавляюще гулок и в то же время глух, словно шел из-под земли: он проникал не только в уши, нет — он тяжело отдавался в груди, сдавливал дыхание. Было страшно стоять у трухлявых деревянных перил: казалось, звук толкает тебя; вот еще один размах языка, один удар по черному металлу — и этот гул припрет тебя к перилам, и они не удержат твоего тела, и ты упадешь вниз, в пропасть — туда, где тускло зеленеют деревья прицерковного сада.
Говорили, что отливал этот колокол знаменитый в старину колокольный мастер Никита Лобанов и что, когда готов был расплавленный металл, в яму с литьем свалился малолетний сын этого мастера. Еще говорили, что колокол сам звонит перед большой бедой. Впрочем, в это верили только старики да старухи.
По церковным праздникам к тетке приходили гости — жильцы дома и соседи. Поневоле приходилось и меня сажать за стол. Я пользовался случаем и ел напропалую, зная, что тетка не будет бить меня при посторонних. Так как все остальные дни питался я плохо, то после праздничного стола у меня обычно болел живот. Но хоть я и знал наперед, что живот будет болеть, однако все равно ел, не мог удержаться.
Читать дальше