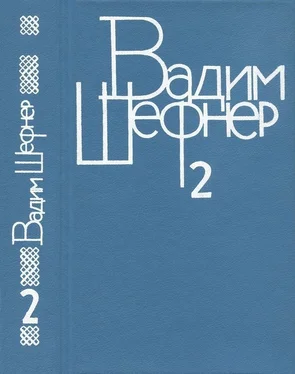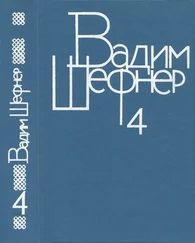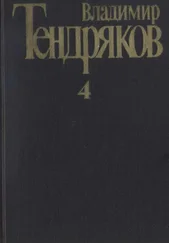— Глаза у нее вспыхнули благородным гневом, она засмеялась геометрическим смехом и прыгнула в пропасть! — отчетливо произнесла Веранда и захохотала. Потом подошла к какому-то дяденьке и стала с ним танцевать.
— Идем и мы, — предложил я Люсенде. — Только я неважно танцую, тем более танго.
— Я тоже неважно, — улыбнулась она. — Попробуем.
Я осторожно обнял ее, и мы вошли в толпу танцующих. Танцевала Люсенда хорошо, она, в сущности, вела меня. С ней было легко. Все вокруг плавно покачивалось, плыло куда-то. Огоньки свечек на елке тихо колыхались. От Люсенды пахло черемуховым мылом, чистотой. Праздничная радость прихлынула ко мне. Все было праздничным, весь мир — несмотря ни на что — был праздничным. И впереди, за легкой дымкой неизвестности, тоже угадывалось что-то праздничное и светлое... Меня охватило чувство благодарности к кому-то за все, что есть, и за все, что будет. Но я не знал, кого благодарить. Если б был Бог, то я благодарил бы его. Но в Бога я не верил. Тем временем пластинка кончилась.
— Люся, большое тебе спасибо, — сказал я, подходя с ней к столу.
— За что? — удивилась она.
— За то, что ты меня тогда выручила, в прошлом году. Меня могли бы из техникума попереть, если б не ты.
— Опять ты об этом! — поморщилась она. — Ну не надо, не надо.
— Ну и вообще спасибо. Просто так. Не знаю за что.
Тут к нам подошел Костя. В руках он держал два стакана, полных какой-то подозрительной алкогольной смеси.
— Чухна! Выпьем за погруженье! Через Дюнкерк и Капоретто — к Каннам и Трафальгару!
— Не надо вам больше пить, — с опасением сказала Люсенда. — Ты, Костя, и так уже... Да и ты, Толя...
— Не мешай ему погружаться! — прервал ее Костя. — Не разоружай его морально! Подними свою рюмку и гляди ему в глаза! А ты, Чухна, гляди ей в глаза!
— Зачем в глаза? — спросила Люсенда.
— Для взаимного контроля! — ответил Костя. — Ну, выпьем все разом!
— Люся, за твое счастье в этом году, — сказал я.
Люсенда поднесла к губам рюмку. Она глядела на меня не мигая — не то с сожалением, не то с сочувствием, не понять было толком.
— Всё! — Я поставил на стол пустой стакан.
— Всё! — сказала Люсенда, ставя на стол пустую рюмку.
— Всё! — Костя поставил пустой стакан, сел за стол, отодвинул от себя тарелки и рюмки и запел — вернее, завопил, — молотя кулаками по столу:
Мама, купи же мне туфли,
Чтоб ноги не пухли!
Мама, купи же мне туфли
И барабан!
Вначале все на него уставились, некоторые с неудовольствием. Затем, когда Костя пропел эту белиберду раза четыре подряд, ему стали подтягивать. Потом эту чепуху стали выкрикивать все, кто был в комнате. Патефон напевал свое: «Парень кудрявый, статный и бравый, что же ты покинул нас...» Но никто его уже не слушал. Все пели про туфли и барабан.
Я все понимал и мог петь и говорить не запинаясь. Но голова кружилась и ноги подкашивались. Какое-то странное состояние. Я слыхал, что такое бывает от дорогих выдержанных вин, но ведь здесь их не было.
— Тебе, кажется, плохо? — спросила вдруг Люсенда.
— Мне хорошо, но все кружится.
— Идем, я тебя уложу, поспишь часик. Идем, это ведь не наша комната.
Она повела меня по коридору, потом мы свернули в маленький коридорчик.
— Вот здесь мы живем, — чуть-чуть настороженно проговорила она, открыв дверь и включив свет.
Я огляделся. Комната большая, но какая-то очень уж пустая, чем-то напоминает наше с Костей жилище. А занавески с заплатами, и ничего лишнего нет, и даже чего-то такого нет, что есть у многих, а чего — не поймешь.
— Там за шкафом Верина постель, а это — моя, — сказала Люсенда. — Ты ложись, не стесняйся.
Я лег, свесив ноги, на железную, без всякой никелировки и шариков кровать, на синее солдатское одеяло. Все это было почти такое, как у нас с Костей. Только подушка — чистая и мягкая, и пахнет черемуховым мылом.
— Спи! — сказала Люсенда. — Пойду посуду мыть.
Она вышла, не погасив света. Я оторвал голову от подушки, еще раз оглядел комнату. Вот, значит, как у них дома. А я-то почему-то считал, что Люсенда и Веранда живут в достатке. Мне стало стыдно за себя. Я бы по-другому относился к сестрам, если б знал о них больше. Как по-другому — это было мне самому неясно. Может, мягче, сердечнее. Ведь одно дело, когда бедно живут мужчины, и другое дело — когда женщины. Когда нам, мужчинам, плохо живется — не так уж это и грустно. Мы вроде бы сами в этом виноваты.
Дверь открылась, и вошла Люсенда. Она положила мне на лоб мокрое, холодное вафельное полотенце.
Читать дальше