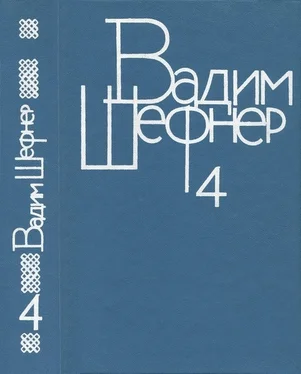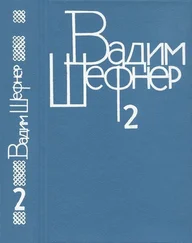На другой день я летел в школу, как на праздник. Но Ира ни разу не взглянула в мою сторону, будто вчера мы и не шли рядом по Двенадцатой. А когда я, повторив вчерашнюю хитрость, снова очутился перед ней на улице и попробовал завести разговор, она сказала:
— Почему ты за мной, будто хвостик, бегаешь?!
Я очень огорчился. Меня подкосил этот «хвостик»; скажи она «хвост» — было бы как-то полегче на душе. Больше я заговаривать с Китаезой не пытался.
Через какое-то время учительница пересадила меня на другую парту. Теперь я сидел с мальчиком по фамилии Григорович; сам себя он называл Григоркевичем и требовал, чтобы и другие его так звали. Этот Григорович-Григоркевич жил на углу Шестой линии и Академического переулка, почти у самой Невы. Мы стали ходить из школы вместе. Мне приходилось делать крюк, зато путь мой теперь пролегал по набережной — а что может быть лучше?
От школы до Невы — рукой подать. Первым делом мы шли смотреть погибший корабль. Он лежал в воде против спуска, что тянется от Тринадцатой линии в сторону Горного института. Госпитальное судно «Народоволец» затонуло и легло на борт в двадцатом году. Говорили, что построено оно с изъяном, у него крен на правый борт; для придания кораблю равновесия в трюме по левому борту имелась цистерна, заполненная водой. Один матрос якобы привел на корабль свою девушку, они спустились в трюм, девица по неразумению открыла кингстон; матрос не сумел его закрыть, судно потеряло остойчивость и перевернулось; спасти удалось далеко не всех раненых. Об этом событии пелась частушка на мотив «Яблочка»:
Эх, клешнички,
Да что наделали —
«Народовольца» потопили,
С бабам бегали!
Знатоки утверждали, что судну суждено было погибнуть: в «Народовольца» его переименовали незадолго до катастрофы, а прежде оно звалось «Рига»; по морской негласной традиции корабль должен всю жизнь носить то имя, которое дано ему при «рождении», переименование же всегда ведет к несчастью.
Еще балакали, что за сутки до аварии с корабля ночью ушли все крысы и что вахтенный матрос, видя великий крысиный исход, доложил о ЧП капитану, но тот не принял это во внимание — и сам погиб в первую очередь: в тот миг, когда вода хлынула из цистерны, капитан на вельботе подчаливал к борту, и судно, перевернувшись, вдавило в дно Невы вельбот вместе с гребцами и капитаном.
К сему добавляли, что крысы покидали корабль организованно: они шли по трапу гроссами, то есть подразделениями по сто сорок четыре штуки в каждом (у них якобы не десятеричная система счета, как у людей, а двенадцатеричная). Они сразу устремились к церкви Киевского подворья, что на углу набережной и Пятнадцатой линии, забрались там в подвальный склад, сожрали все восковые свечи и муку для просфорок, а потом рассредоточились по всему Васильевскому острову.
«Народовольца» подняли года через два. На берегу установили с полсотни механических лебедок, от них протянули к судну множество стальных канатов. Набережная кишела народом: все островитяне сбежались смотреть подъем злосчастного госпитального судна; конная и пешая милиция наводила порядок, не подпуская близко к лебедкам. Некоторые тросы рвались от напряжения, лопались со звоном, как гигантские струны, но борт корабля все же оторвался ото дна, «Народоволец» выпрямился. Позже его отбуксировали к причальной стенке судостроительного завода и разрезали автогеном на скрап.
...Поглазев на погибший корабль, мы с Григоровичем направлялись к Шестой линии. Шли мы, разумеется, по гранитной набережной. На этом ее участке в пору навигации было на что поглядеть. Здесь чалились буксиры, лихтера, небольшие грузовые судна. Недалеко от памятника Крузенштерну стояли на приколе две большие шхуны: их шаровая (серая) краска облупилась, команд на них не было; совершенно однотипные, они покачивались рядом — корма к корме и бушприт к бушприту, будто две сестры, и ждали, ждали чего-то... В их покинутости таилась грустная красота, напоминание о неведомом. Вблизи кипела народом пристань местного пароходства — отсюда отваливали в Кронштадт и Петергоф черный «Тов. Аммерман» и белые «Горлица» и «Буревестник» (тот, что вскоре погиб в Морском канале). Ближе к Восьмой линии находилась «заграничная» пристань, почти всегда безлюдная; к ней раз в неделю причаливал нарядный белый «Прейсен» — пароход, ходивший в Прибалтику и Германию. Порой к гранитной стенке приставали финские лайбы — небольшие грузовые суденышки; на корме у них всегда развевался большой флаг — синий крест на белом поле. Эти большие нарядные флаги на скромных, невзрачных лайбах выглядели странновато, но не смешно, а скорее трогательно.
Читать дальше