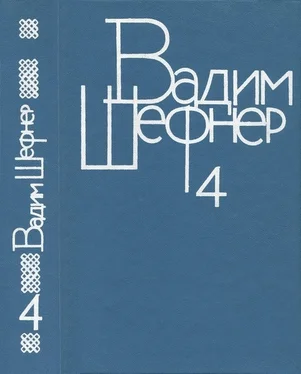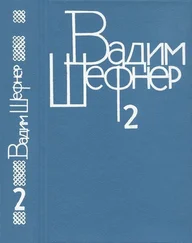Как это ни странно, от первых трех лет обучения в этой школе самые отчетливые воспоминания остались у меня не о главных предметах и преподавателях, а о второстепенных. Очень хорошо помню уроки гимнастики (словечко «физкультура» еще не употребляли), которые вел учитель по прозвищу Сметана — высокий пожилой человек скандинавского вида, с идеальной выправкой, с густыми, длинными и совершенно белыми волосами. Он всем поголовно ставил только высшую отметку «хор.», но порой любил уязвить ребят обидным словцом. Я неплохо бегал, но в занятиях на снарядах был неуклюж, и однажды он мне сказал:
— Ты, Шефнер, своими изящными движениями напоминаешь мне осиновое бревно!
Когда начинался урок, Сметана первым делом разделял класс на две группы — на девочек и мальчиков; девочки, одетые в полосатые футболки и синие шаровары (трусики носить им не полагалось, считалось неприличным), занимались в другом конце зала, и им Сметана никогда замечаний не делал и давал до нелепости легкие упражнения. Шел слух, что до революции он преподавал в каком-то кадетском корпусе и, кроме того, играл в теннис с князем Юсуповым и даже с членами царской фамилии. Ранней осенью и весной, если не шел дождь, Сметана выводил нас на широкий школьный двор и, позанимавшись с нами минуть пятнадцать-двадцать, объявлял:
— А теперь каждый может беситься на свой манер!
Тут мы, ребята, сломя голову бежали в конец двора — там высились старые клены, а дальше тянулись длинные штабеля двухметровых дров. Мы бегали по поленницам, перескакивали с одной на другую, играли в пятнашки, боролись, сталкивали друг друга вниз и возвращались на следующий урок в синяках и царапинах. Эта гимнастика нам очень нравилась.
Уроки ручного труда в младших классах вела толстая, добрейшая немка Ирма Иоганновна, в просторечии — Ширма; так ребята прозвали Ирму за ее габариты. Под ее руководством «бэшки» клеили какие-то коробочки, домики и лепили из глины фигурки зверей. Тех учеников, которые ленились клеить и не умели ничего лепить, Ширма к труду не принуждала, только называла их «фаулями» (лентяями), а иных и «гроссфаулями», что означало высшую степень лентяйства. Обычно она, когда начинался урок, сажала за отдельный стол целый выводок фаулей (в их числе был и я) и давала им альбом, на обложке которого в овале, обвитом незабудками, красовалась такса с четырьмя щенками; взяв с нас обещание, что мы не порвем и не запачкаем ни единой странички, она оставляла нас в покое. Мы принимались рассматривать красочные изображения кошек и собак — их было множество, и все они были самых разных пород, возрастов и размеров. Порой Ширма, покинув трудолюбцев, подсаживалась к нам и рассказывала всякие истории о животных, населявших эту толстую книгу. Особенно ласково говорила она о сенбернаре, который за двенадцать лет своей жизни спас в горах Швейцарии сорок заблудившихся, замерзающих путников; со страницы альбома на нас глядел огромный, добрый, умный пес.
— Дети, этот собака не был ленив! — торжественно-наставительно заканчивала свою речь Ширма.
Только раз мы видели ее рассерженной — это когда кто-то из ребят вылепил из глины некое подобие человека и весьма явственно и даже преувеличенно обозначил его принадлежность к мужскому полу. Ширма раскричалась, назвала юного скульптора-натуралиста хулиганом и капустной головой и поставила в угол до конца урока.
Самыми тяжелыми для педагогов и самыми веселыми для учеников были уроки пения. Предмет этот считался даже не второстепенным, а каким-то вовсе несерьезным, отметки по нему никакого значения не имели, — и мы, ребята, это чувствовали; если песня нам нравилась — пели, а не нравилась — начинали мычать сквозь зубы, мяукать и кукарекать, причем девочки в этом отношении не отставали от мальчиков.
Бедные учительницы пения! Они часто сменялись, видно, не выдерживали тягот преподавания. Одну из них я запомнил — худощавую пожилую даму со следами былой миловидности, с нервным, вечно настороженным взглядом. Когда в классе вместо пения начинался всеобщий галдеж, она, изо всей силы хлопнув крышкой рояля, бия себя в грудь, начинала выкрикивать:
— Прекратите этот содом! Как вы смеете! Я — певица!
Мы ее так и прозвали: Япевица, а сокращенно — тетя Япа. Изводили тетю Япу самыми идиотскими способами. В кабинете пения висел на стене портрет Бетховена, он остался еще от Елизаветинского института; художник, по-видимому, хотел изобразить композитора в минуту музыкального вдохновения и переборщил: его Бетховен, с перекошенным ртом, с выпученными буркалами, смахивал на обитателя психбольницы.
Читать дальше