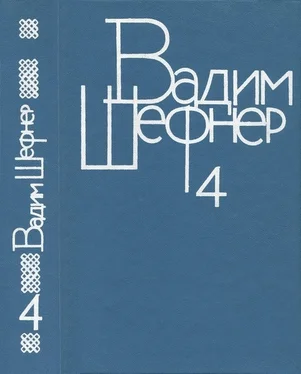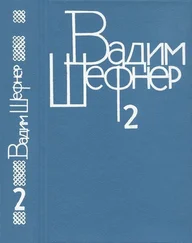— Ты неужели не знаешь? Ленин умер в Москве.
Лет мне было еще не так много, да и политически, в силу семейных обстоятельств, развит я был не очень, но голос той женщины прозвучал так щемяще, что каким-то краем души я ощутил печальную громадность события и навсегда запомнил этот день.
Весь отрезок жизни от конца января до начала весны почти начисто вывалился из моей памяти. Сохранилось лишь ощущение, что теперь, после выписки из больницы, в школу я ежедневно отправлялся хоть и без особого восторга, но и без прежнего страха: то ли свыкся со своим положением плохого ученика, то ли ко мне притерпелись все в классе.
Приход весны я запомнил из-за одного мелкого события. Маршрут мой в школу пролегал через однопролетный деревянный мост, перекинутый над какой-то речкой (кажется, Перерытицей). После ледостава пешеходы, дабы сократить путь, проложили тропинку по льду; она шла наискосок, чуть левее моста. С началом весны посреди речки во льду образовалась длинная трещина; первое время она была настолько узкой, что и взрослые, и дети переступали ее без труда, затем трещина превратилась в майну, и ее приходилось уже не перешагивать, а перепрыгивать. Однажды утром, держа путь в школу, я остановился перед промоиной: она показалась мне опасно широкой. Постояв минутку, я пошел обратно на берег, чтобы перейти по мосту. Тут с моста послышался смех; смеялась незнакомая молодая женщина. Потом она крикнула что-то вроде «кишка тонка» или «мало каши ел» — без особой издевки, желая пошутить, а не обидеть. Я перешел на другой берег безопасным путем, чувствуя, что поступаю в общем-то правильно, — однако от этого утра у меня на весь день осталось какое-то неприятное, липкое ощущение. Я знал, что надо сделать, чтобы избавить себя от этого ощущения, но сам себе не решался признаться, что знаю; ведь признаться себе в этом означало поставить вопрос на попа: или действовать — или бездействовать.
Ночью спалось мне плохо, поднялся я на следующее утро чуть свет и в школу отправился много раньше, чем обычно, соврав матери, что так приказала учительница. Когда подошел к речке и ступил на лед, кругом ни души не было. За сутки полынья стала шире, вода в ней казалась очень черной. Чтобы сжечь свои корабли, я перебросил через майну холщовую сумку с тетрадями и пеналом; теперь было бы совсем позорно и нелепо идти через мост, делать крюк, чтобы подобрать эту сумку. Я огляделся. Кругом по-прежнему царило безлюдье. Говорят, на миру и смерть красна, но это кому как: я чувствую себя смелее и собраннее, когда никто меня не подначивает. Разбежавшись, я перемахнул через черную воду; прыжок оказался что надо: приземлился сантиметрах в двадцати от края полыньи. За то микромгновение, что я летел над водой, вся липкая неловкость, томившая меня со вчерашнего дня, улетучилась, сгорела.
Эта махонькая победа над собой вызвала странную цепную реакцию.
Первым уроком в тот день была арифметика. Даже несложные задачки, которые нам задавали обычно, я решал с трудом, а то и вовсе не мог решить; примеры же с «голыми» числами, которые надо было складывать или вычитать в уме, давались мне легко, однако, подавленный своей общей неуспеваемостью, я никогда не поднимал руку, когда решал их. А тут, чувствуя в себе особенную бодрость, я вызвался решить у доски пример — и решил его быстро; затем учительница дала мне еще несколько примеров, постепенно увеличивая их численное значение, — все это я выполнил без труда. Учительница обрадовалась и в то же время, кажется, обиделась: почему это раньше я никогда не выходил к доске. На следующий день урок арифметики вел учитель, человек преклонных лет, замещавший иногда нашу классную наставницу — та часто хворала. Ребята с мест стали кричать ему, чтоб он вызвал меня к доске. Учитель так и сделал. Он написал на доске несколько примеров на сложение и на вычитание, и я быстро решил их в уме. Когда он укрупнил слагаемые до шестизначных чисел, я стал писать суммы на доске (очень коряво); решал я верно, но не знал, как словесно выразить такие большие числа. Когда он попробовал задать мне задачу с двумя пешеходами, у меня ничего не вышло. Сложение же «голых» чисел, по непонятной мне до сих пор причине, получалось у меня мгновенно — и как бы помимо воли и разума.
Эта странная способность продержалась у меня года два, при почти полном отсутствии и интереса, и способностей к математике вообще. Но тогда в школе решили, что на меня можно возложить какие-то надежды, и даже вызвали мать для беседы, вручив мне записку для передачи ей. Мать, отправляясь в школу, была уверена, что ей опять будут толковать о моем отставании — к этому она, увы, уже привыкла. Нет! На этот раз меня похвалили и сказали ей, что она должна способствовать развитию моих математических способностей. Однако этот неожиданный зигзаг в моей учебной судьбе нисколько мать не обрадовал. Вернувшись из школы, она бегло изложила мне содержание беседы и никаких поощрительных слов не сказала; я заметил даже, что она чем-то расстроена, и был этим весьма удивлен, но спросить о причине ее огорчения не решился.
Читать дальше