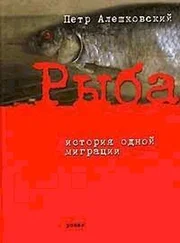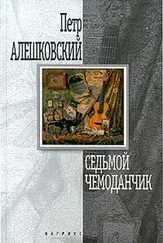Я лежала, вжавшись разбитым лицом в подушку. По мере того как застывала кровь, тише становились ее толчки в рассаженной брови, остывала и я. Холод растекался по телу, оно немело, покрывалось спекшейся коркой. Так я пролежала несколько часов, пока не пришел Павлик. Он смыл с лица кровь, обработал ранку зеленкой, заменил наволочку и испачканные простыни. Хотел было бежать за доктором, но я глазами запретила ему. Стыд сковал меня. Он накрыл меня теплым одеялом, видя, что свет причиняет моим глазам боль, зашторил окно, выключил лампочку ночника.
Маленькой щелочки, пробивающейся из-под шторы, было достаточно. В иные моменты тонкий солнечный луч, красящий подоконник волнистой белой полосой, вызывал у меня мигрень, я отворачивала голову к стенке. Шум, как и свет, доставлял мучение. Когда перед рассветом у соседей в сарае пропел петух, от боли, казалось, лопнет голова. Лоб постоянно покрывался испариной, меня бросало то в озноб, то в жар, я начинала вдруг задыхаться, словно на лицо положили непротыкаемый ватный матрас.
Беспричинный страх, поселившийся где-то глубоко внизу живота, медленно полз вверх, как вода, заполняющая закупоренную ванну. Тогда начинала гореть грудь, шея и лицо покрывались пятнами. Язык не повиновался, не хотел пропускать слова, роившиеся в мозгу. Свою немоту я воспринимала как счастье – раскупорься мой рот в тот момент, я бы жалобно скулила, вопила бы о помощи.
Сон пропал – я лежала, уставившись в одну точку, или следила слезящимися от бессонницы глазами за заботливой рукой сына, обтирающего меня холодным полотенцем. Прикосновения его рук и мокрой ткани успокаивали, сбивали жар лучше аспирина.
Павлик интуитивно нашел тот же метод, что применяла я сама: беспрестанно гладил мои руки, голову, шею, шептал теплые слова – так успокаивала и усыпляла его в детстве и я, теперь он отдавал долг, нежностью и лаской боролся со своим испугом. Его терапия действовала, дарила спокойствие, отгоняла демонов стыда и страха, засевших в моем животе. Когда он уходил, они, пристыженные и заговоренные его словами, тут же просыпались и принимались жадно тянуть соки из моей искалеченной души.
Волнами накатывали забытые страхи – мерещился проклятый старик, опять и опять я ощущала на себе его властные руки, гладящие мое лишенное сопротивления тело. Грязь залепляла все поры, покрывала кожу коростой. Казалось, тело начинает ссыхаться, мне не хватало воды, я судорожно облизывала спекшиеся губы, и, если сын был рядом, он поил меня из кружки, чуть приподняв голову. Ночью оставалось только молиться, чтобы поскорей наступил рассвет…
Я слышала все, что говорилось в доме, Павлик и Вовка обсуждали поведение Геннадия. Неделю его не было дома. Он пил. Коптить рыбу стало некому – семейный бизнес встал, жизнь покатилась под откос. Геннадий шлялся по городу с проститутками, открыто, никого не стесняясь, а я, слыша о его похождениях, лежала в постели, сгорая от стыда, ненужная и оболганная, как бракованная деталь, которую никому не было охоты чинить. Городишко Харабали маленький – все на виду; я поняла, что показаться на люди будет выше моих сил.
На четвертый день от души отлегло, исчезла напряженность в теле, прошло одеревенение, руки и ноги начали меня слушаться, я сама добрела до туалета. Павлик раздвинул шторы – свет уже не резал глаза, я спокойно смотрела в окно. Шум с улицы не терзал, как в первые дни, но приступы удушья продолжались. Сил в теле не было никаких, но кожа обрела чувствительность, в пальцах рук и ног закололи сотни иголок – признак вернувшегося кровообращения. На закате четвертого дня я в первый раз съела две ложки размоченной в кипятке белой булки.
Болезнь отступала толчками. На шестой день я почувствовала, что могу говорить, но молчала, боясь сглазить. Разбитая бровь саднила, и я радовалась боли как чему-то живому, сменившему неживое наваждение.
Вовка подловил Геннадия где-то в городе и крепко ему врезал. Я слышала, как он рассказывал об этом Павлику, но не испытывала гордости за заступника. Тайком от всех теребила застывшую корочку на брови, вызывала сладкую боль. Стыдно было в этом себе признаться, но я хотела посмотреть на Геннадия, мне нужно было взглянуть ему в глаза. Я его не боялась – это было другое, не передаваемое словами страстное желание. Тонкий шрам на правой брови – память о Харабали – сохранился у меня навсегда.
Через неделю Геннадий приполз домой, его шатало от усталости, как нагулявшегося кота. Вовка ли его проучил, или он сам что-то понял, но уже с порога Геннадий стал просить прощения – раньше не делал этого никогда. Он что-то бормотал о смирении, о бесах, плакал похмельными слезами, тянул ко мне руки. Семь дней я почти ничего не ела, но встала с кровати, надела халат, подошла к плитке и поставила чайник. Он потянулся за мной на кухню, я повернулась к нему и спокойно, глядя в глаза, сказала:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу