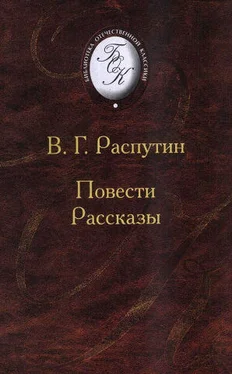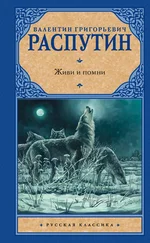Только бы согласился Стас.
Она поехала к тому самому человеку, который впервые назвал ее Пашутой, который говорил, что она сытная баба, такая, стало быть, что возле нее чувствуешь себя сытно, успокоенно. А он знал ее. Лет восемь подряд, оба одинокие, потрепанные жизнью, грелись они друг возле друга. То она приезжала к нему, то он к ней. Было это давно: всё, достойное памяти, было давно, последние годы только уродовали ее и унижали. Она и связь со Стасом порвала оттого, что ей стыдно стало показывать себя, больную, расплывшуюся тоже «за черту». Встречались они теперь совсем редко; раз или два в году по обязанности доброго сердца он заглядывал, пытался растормошить ее, упрекая за безволие, и уходил, она видела, расстроенным.
Стасом она называла его про себя, а перед ним — Стас Николаевич. Навсегда он остался для нее человеком другого круга — образованным, многознающим, собранным аккуратно в приятный порядок, так что не топорщилось ничто ни в одежде, ни в речи, ни в поведении. На стройке он начинал с диспетчерской, голос его разносился через громкоговоритель далеко — и всегда без крика. Потом как инженер поднимал алюминиевый завод. У него рано погибла жена, которую он очень любил, погибла у него на глазах во время спуска на резинках по горной реке, куда он ее затащил, оставив ему, кроме трехлетнего сына, незаживающее чувство вины. Сына пришлось отправить к своим родителям в Рязань; тот, выучившись, там и остался. А Стас надолго сник, переходил с работы на работу, чуть было не ушел в пьянку, но удержался и перебрался из города в этот пристанционный поселок, купил здесь небольшой деревянный домик и, уже оформив в прошлом году пенсию, подрабатывал в столярке.
Кроме Стаса, не осталось у Пашуты ни одного человека, кому бы она могла довериться.
Она вышла к автобусу в темноте, забитой сырым вонючим туманом. Шла к остановке и билась в кашле. До чего же горазды они делать аварийные выбросы в туман — будто это туманом нанесло невесть откуда, а они здесь ни при чем. Но уже без возмущения вспомнила о них Пашута. Они и раньше были недосягаемы, хотя и признавалось открыто, что творят беззаконие, теперь же и вовсе превратились в небожителей, обращаться к которым можно только с мольбой, превратились в признанных богов, дарующих кусок хлеба. А за него простится все. И не к ним, как все вокруг, взыскивала Пашута, а к своему нездоровью, к своим грехам. За грехи наказываются.
Слабо толкнулось в нее: что-то мало народу в автобусе. Но как толкнулось: слава Богу, можно не давить тушей на ноги, а усадить ее, пусть еще ноги поберегутся. Но и в электричке было свободно. Пашута принялась рыться в памяти и вырыла с трудом, что сегодня суббота, день для нижнего густого народа нерабочий. Можно было и не торопиться. Сегодня жмут на свои педали, качающие деньги, всякие «куммерсанты», как выговаривала Аксинья Егоровна, да банкиры. Но они выходят позже и в автобусах не ездят.
Пашута не помнила, учится ли по субботам Танька.
В половине восьмого, на рассвете, когда чуть посинел туман, подошла она к дому Стаса с двумя окошками в переулок. За окнами стояла темнота. Досыпает Стас или нет дома? Она давно его не видела; у него был телефон, но ей и в голову не пришло позвонить. А когда бы она стала звонить? Еще полсуток не прошло, как отбыла мать; это кажется, что давно. И пришлись эти полсуток на ночь. Решения, которые принимала она, были не результатом работы мысли, не сигналы, посылаемые в мозг и возвращающиеся с ответами обратно, направляли ее — ничему она, оцепеневшая и затухающая, не сигналила, а словно бы отслаивалось что-то в нужный момент от корковатого сердца и подталкивало.
В восемь, не дождавшись из окон света от гидростанции, которую они со Стасом строили, Пашута позвонила. Нет, не зря строили: свет вспыхнул. Стас открыл без оклика. Вслед за ним, полуголым, ни о чем не спрашивающим, прошла она в дом, сбросила куртку и скорей убирать из-под тяжести ноги.
Они сидели за чаем в кухонке, в голом, без ставня, окне которой, засиженном мухами, летели космы тумана, путаясь в черных и острых ветках яблони, и виднелся навес с верстаком по левую сторону и поленницей дров по правую. Все промозгло за сырую осеннюю ночь и стояло уныло. Рассвело мутным болезненным светом.
Пашута дорвалась до чая, пила и пила. Стас подливал уже дважды. Он был в старой меховой душегрейке-безрукавке, накинутой на майку, крепкие руки ходили с силой. Потрескивала остывающая конфорка электроплиты в углу, а рядом, возле двери, потрескивал в печи живой огонь. В деревянных домах все уживалось вместе — и старое, и новое. Передом печь выходила в кухонку, а задом в единственную и просторную комнату.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу