Что и говорить, реалисту гораздо тяжелее, чем, скажем, постмодернисту. Этот всегда сошлется на «принцип нон-селекции», благодаря которому полное отсутствие литературных способностей можно объявить особой разновидностью таланта. Реалисту же деваться некуда, он обязан быть точным и по возможности достоверным. Кстати, однажды мое ФЭ пришло к выводу, что БЭ вкупе с его скромным творчеством точно укладывается в определение «гротескного реализма», каковой, по мнению Бахтина, торжествует в литературе в пору ожесточенной борьбы нового со старым. Я высказал эту мысль в каком-то интервью. Некоторое время спустя один из немногих критиков, ко мне расположенных, сообщил в статье, что после мучительных размышлений он осознал: проза Ю. Полякова относится к именно «гротескному реализму». Я вынужден был согласиться с озарением критика. Кстати, мое ФЭ, подумав, пришло к выводу, что «гротескный реализм» автора по-настоящему оформился именно в «Апофегее», хотя элементы его есть и в ранней прозе – в «Ста днях до приказа», «ЧП районного масштаба» и «Работе над ошибками»…
5. Кто придумал «Апофегей»
Но вернемся к истории появления слова «апофегей», давшего название повести. Поначалу, напомню, повесть именовалась «Вид из президиума» и задумывалась как разоблачение мрачной жизни партийного аппарата. Не могу сказать, что я ненавидел командно-административную систему, которая лично мне ничего плохого не сделала, если не считать того, что завела страну в тупик. Впрочем, какой тупик тупее, советский или постсоветский, еще вопрос…
У меня среди партийных функционеров было довольно много приятелей. Любопытная деталь: когда мы общались неформально (то есть выпивали и закусывали), мои друзья выражали самое горячее неприятие «застоя» и командно-административной системы, хотя именно они были ее винтиками и шпунтиками. Они-то ее и развалили, раздербанили, растащили, а не диссиденты во главе с Солженицыным и Сахаровым, влиявшие на жизнь огромной державы примерно так же, как комары влияют на кровообращение медведя. В начале 1990-х в одной из статей я вообще предложил такое определение: «Перестройка – это мятеж партноменклатуры против партмаксимума». Партмаксимумом называлась норма отпуска материальных благ функционерам, установленная в двадцатые годы, когда стало ясно: на смену старым большевикам, тоже, надо сказать, не овечкам в смысле хапнуть, идут новые, молодые и гораздо более прожорливые, вовсю развернувшиеся при нэпе. Помните, партиец Гусь в «Зойкиной квартире» неосторожно размахивает пачкой червонцев, за которую его потом и зарезал китаец. Откуда у него такие деньжищи, когда страна голодает, а зарплата квалифицированного столичного рабочего три-четыре червонца? Нэп-то из-за того и грохнулся, что большинство могло лишь смотреть на витрины. Да еще, как на грех, нэпманами вдруг оказались по преимуществу не родные захребетники Сидоры Ивановичи да Харлампии Тихоновичи, а чужаки с мудреными фамилиями. Среди населения, даже лояльного к большевикам, поползло опасное недоумение: «За что боролись?» Пришлось эксперимент сворачивать от греха…
В «Апофегее», если брать социально-исторический аспект текста, как раз и описан период тихой подготовки номенклатурой этого мятежа против партмаксимума. Однако, начиная повесть как очерк нравов партийных аппаратчиков, я где-то в середине работы понял, что пишу совершенно о другом – о своем ровеснике, пошедшем во власть. А власть – это всегда власть, и не важно, как она называется – горком или гордума, ЦК КПСС или администрация президента. Оказалось, я пишу о том, что происходит с человеком, если он всерьез начинает карабкаться по лестнице, ведущей вверх, рассказываю о том, чем он должен пожертвовать, от каких чувств и принципов отказаться. И прежде всего он должен отказаться от такого непредсказуемого, непросчитываемого и нерегламентированного чувства, как любовь. Выбор между любовью и властью древнейший. А выбор Антония, последовавшего за Клеопатрой себе на погибель, – редчайший в истории. Вот почему, кстати, повести предпослан эпиграф из Библии.
Обычно спрашивают, насколько мои книги автобиографичны. Конечно же, они автобиографичны, но не настолько, чтобы наскучить читателям. Если жизнь человека – поле, то литература – венок, и от автора зависит, какие именно цветы-травы сорвать и в него вплести. Сознаюсь, на определенном этапе у меня были все шансы сделать редкую партийно-писательскую карьеру. Я отказался от заманчивых предложений не потому, что нечестолюбив, а потому, что мое честолюбие в другом. Кстати, эта формула принадлежит не мне, а Чаковскому. Эдуард Брокш рассказывал такой случай из своей жизни. Он работал в «Литературной газете», пописывал пьесы, и вдруг одна из них, про Чарли Чаплина, пошла по стране, появился литературный заработок, и Брокш решил оставить газетную поденщину. Написал заявление и отправился к тогдашнему главному редактору Чаковскому, который, дымя хорошей сигарой, скользнул по заявлению и процедил:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

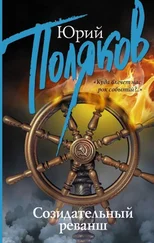
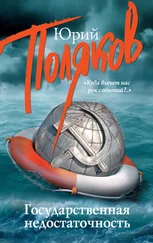



![Юрий Поляков - Треугольная жизнь [сборник]](/books/404950/yurij-polyakov-treugolnaya-zhizn-sbornik-thumb.webp)
![Юрий Поляков - Красный телефон [сборник]](/books/404951/yurij-polyakov-krasnyj-telefon-sbornik-thumb.webp)
![Юрий Поляков - Красный телефон [сборник litres]](/books/404953/yurij-polyakov-krasnyj-telefon-sbornik-litres-thumb.webp)



