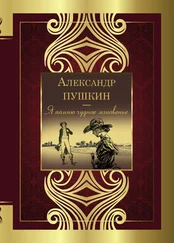Уладили необходимое и, рассовав за подкладку наличность, возвратились, ублаготворенные, на ночлег в надкусанный обветшанием домик, где в гостевом зальчике Фридман вперился в сухопарого, восточной наружности, облитого станционным электричеством постояльца, визави притертых командированных из славян. Тот молча, с необыкновенным уменьем и честностью, отметил про себя Глезер, просеивал колоду, и по недоумевающей панике на ряшках партнеров можно было дотумкать, что им, оптом и в розницу уже тасовавшим, невдомек, отчего все карты снова лягут на другую половину стола. Поднялись в номер, не чересчур убогую в глуши опочивальню о двух койках, вытеснивших, по донесению пройдохи из коммунхоза, германскую двуспальную кровать, реквизированную энкавэдэшным чином — охранка ворья, как за несколько часов до того, едва разложили вещички, обозвал деспотов Фридман, но теперь его волновало кое-что поважнее перины. Глезер пошевелил пальцами, как пианист перед клавиатурой, оторвал от куриной тушки бледно-желтое, в жировых подтеках крыло и, с набитым ртом, пригласил коллегу взяться за ножку — мычание было вкусным. «Непременно, — пробормотал Фридман не из мира сего. — Дай мне, Изя, часть моей доли, наведаюсь вниз, одна нога здесь…» В курице Глезера завелась сколопендра. «Он раздавит тебя, берегись. Я, Марк, не дам тебе денег». — «Это Мирза-ага, в какой-то своей инкарнации». — «Какой нации татарин, я почище твоего разумею, а ты не ходи со своей до шайтана». — «Тут и мои две копейки есть, дай мне, прошу». — «Не проси», — загородил дверной проем Глезер.
Набыченный, Фридман двинулся на него, еще не получив от мышц наказ, что делать; Глезер с интересом смотрел. Четырех шагов хватило наступающему, чтобы упереться кулаками в литую плоть покровителя и неуверенно толкнуть, прицениваясь. Тень от крыльев мыши в лете ощетинила щеки Глезера и унеслась в далекую пещеру, будто победитель конкурса брадобреев оснежил его островной пахучей греческою пеной и взмахом лезвия, за которым ни в одном из временных разрезов не угнаться волоките этой фразы, вернул заросшую кожу в младенчество. Фридман переминался, изнутри проминаясь, скрипучие доски изумлялись его неуклюжести. Он вежливо пихнул Глезера и был отброшен на пружинно зазвеневшую кровать. Встал кряхтя, опять полез, уперевшись. «Ты будешь валяться у синагоги, а я тебе, Марк, не подам», — сказал Глезер. «Чудненько», — подтвердил компаньон, его грузное туловище налегло на Исая. В этот раз поднялось оно тяжелее. Глезер драться умел, не единожды отбивался вручную, мог простым хуком справа положить конец безобразию, но сажать в нокдаун друга? — он ругательски отшвырнул увальня тем же макаром, а Фридман, как подмененнный, по-медвежьи разлаписто подбежал, уже не толкаясь, облапил, повис бурдюком и с картавым клекотом, сквозь толщу дум и бедствий напомнившим Глезеру горькую песенку из репертуара негритяночки в марсельском, 1923 года, кафешантане, отчего Исай глотнул имбиря и истомы изжаждавшимся заглотом, словно душу его прополоскали в соболезнующей безутешности, — Фридман с клекотом картаво заверещал, Глезер в знак сдачи махнул, отшатнулся, и разжившийся дурень выдавился в коридор.
Через полчаса виноватое шарканье разбудило Исая, он не спрашивал, было ясно и так.
Отвратительная повторяемость, думал Глезер,
Дни и ночи по кругу,
Спираль черта с два в диалектике — в матке,
Всегда вылезает до срока,
Потом жди зачатия, жди аборта,
Повторяемость, вкус падали во рту,
Крысиный хвост вдоль известковой стены,
Блевотина у парадной и раздавленный помидор.
В такой же восемь лет назад поездке.
Федерации мелкого жульничества с мелким страхом,
Который и сейчас трепещет на запястьях,
Мешая пульсу отсчитывать развитие,
Сиречь убывание моей жизни,
Но и возрастание страха большого, зубастого,
Изнуряющего желудок, как неиспользованные молоки — мошонку,
Хотя заброшенный пол затухает,
А страх пребывает и прибывает,
Также голод и желание сна,
Соратник был у меня, Захар Абезгауз, высохшая кочерыжка хрена, еврейский, в три вымени доивший адвокат, такая подлая профессия, они ж не доверяют тем, кто не дерет, не доит, не стрижет — триамбула, Исай,
Поборник молоденьких, с облезлыми коленками, закапанных мороженым гулен,
Одна из кисок, подражая киске, ворчала, выгибая шейку, «фр-фр-фр»,
По три рубля за каждое «фр»,
М-м, не считая убранных в подушечку когтей,
Щекотала пропедевтически или, с моей стороны, — гимнически, ибо, не скрываясь, кричал, да, Изя-друг, антично кричал, я всеисправно кричу, за то и платим-с,
Читать дальше









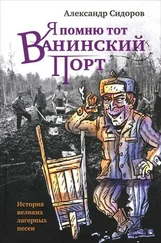
![Александр Афанасьев - Помни имя своё! [litres]](/books/394998/aleksandr-afanasev-pomni-imya-svoe-litres-thumb.webp)