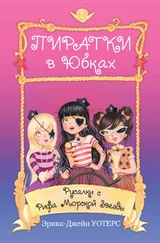— Переживания ведут к смерти, приятель, — сказал гость из Ванкувера и поднял стакан, но не отпил, а отлил несколько капель под стол, как бы в память о ком-то усопшем. — Я редко задумывался о смерти, спасался от ее призрака тяжким трудом и безрассудными пирушками — до той минуты, пока врачи не сказали мне: «Ты свое выпил, дорогой! Каждая следующая капля — шаг навстречу смерти…»
Я был безрассуден — пускал по ветру все, что зарабатывал, но было одно правило, которое я никогда не нарушал: «Не сдавайся! Докажи этому миру, который, может статься, и не замечает твоего существования, а если и заметил, то через секунду забудет о нем, — докажи ему, что ты есть, что ты явился на свет для того, чтобы прожить свои дни достойно, а, если нужно, показывай зубы, даже если потом придется выплевывать их с кровью…
Я приехал из Будапешта в Ванкувер, имея на плечах один костюм, несколько долларов в кармане и пачку трубочного табака, — продолжал свой рассказ человек, чей лоб был перерезан глубокой отвесной морщиной. — Бросил все, что нажил за истекшие годы… Банальная история: пока я разъезжал по базарам от Балатона до Тиссы, жена моя нашла себе другого. Возвращаюсь как-то поздно вечером и вижу — все окна в доме освещены. Слышу голоса, за шторами видны силуэты людей, гремит музыка. «Жена устроила вечеринку и пригласила цыган-скрипачей», — думаю я и подымаюсь по лестнице. Вхожу. Знакомые смущенно кивают мне, незнакомые дивятся, что за человек, весь в пыли, заросший щетиной, явился посредь ночи в этот богатый дом.
Открываю дверь в спальню и вижу то, что, собственно, и ожидал увидеть с той минуты, как услыхал цыганские скрипки: разбросанная по стульям одежда, мужские подтяжки на спинке кровати, моя жена и незнакомый мне субъект, испуганные моим неожиданным появлением, натягивают на себе одеяло, чтоб прикрыть наготу…
— В такую минуту можно от обиды лишиться рассудка и совершить непоправимое, — перебил учитель, взволнованный его рассказом.
— Да, но я не поднял руки, хотя в глазах потемнело. Я сказал себе: «Ты убьешь их, Марин, и будешь прав, — ведь ты защищаешь свою честь, но что потом? Придется гнить за решеткой. Даже если тебе дадут только десять лет, жизнь твоя будет погублена». «Прошу прощения, — сказал я им, — я на секунду, только возьму из шкафа костюм…» Переоделся в соседней комнате. Спускаюсь по лестнице и вижу: на нижней площадке толчея. Гости поняли, что произошло, и спешат убраться подальше. Цыгане прячут свои скрипки, слышно, как бьются упавшие бокалы.
Я вышел из подъезда и больше в этот дом не вернулся…
Христофор Михалушев слушал рассказ гостя, чье лицо выглядело сейчас особенно старым — то ли от горестных воспоминаний, то ли от тусклого света керосиновой лампы — и представлял себе, как он ждет на безлюдном перроне ночной поезд, как сидит потом в пустом вагоне у окна, мимо которого пробегают редкие, холодные огни, как прислушивается к гуденью рельс, и ему мерещится, что это треск рушащегося дома: вот накренился карниз, и крыша слетает на улицу, точно воздушный змей, у которого оборвалась нитка, затем падают все четыре стены — одновременно, гости бегут по лестнице в клубах пыли, цыгане тоже удирают, роняют свои скрипки и слышно, как трещат инструменты под ногами бегущих людей… От дома остались одни бетонные столбы — огромный скелет, высвеченный уличными фонарями, а на верхнем этаже по-прежнему стоит брачное ложе, и на его спинке покачиваются подтяжки похитителя. А влюбленные — они единственные, кто остался в доме — опьяненные жаркими объятьями, видят над головой звезды, ведь крыши над ними нет, ее обломки лежат на мостовой…
— Я приехал в Канаду и начал все сначала, — продолжал гость, привалившись к стене, и к его голосу примешивался скрип древоточца, трудившегося в стропилах над печкой. — Пришлось строить на пепелище, как говорится. Тогда там прокладывали линию железной дороги и я нанялся чернорабочим. Двенадцать часов под немилосердным солнцем размахивал киркой и лопатой. Мозги размякают, глаза не видят — кажется, еще секунда, и грохнусь наземь, но я твержу себе: «Не сдаваться! Малодушие — это гибель! Придет срок — распрощаешься с этим миром. Но зачем торопиться?» Вечером без сил валился в бараке на топчан, рядом с такими же, как я, бедолагами, а на другое утро, чуть свет, опять перекатывалась под ногами щебенка.
Вам это покажется странным, но мне по душе разрушение — дома, доверия, иллюзий — потому что человек при этом подвергается испытанию, и если выдержит его, победит малодушие, значит, достоин шагать по земле, и жизнь подарена ему не зря…
Читать дальше